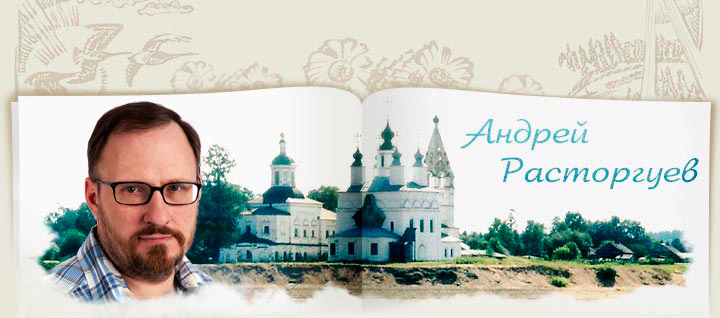
В потоке одушевленного времени (о книгах Александра Павлова и Риммы Дышаленковой)  ПОТОКЕ ОДУШЕВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ ПОТОКЕ ОДУШЕВЛЕННОГО ВРЕМЕНИЕсли в XIX веке вся литература Петербурга вышла, по выражению Достоевского, из гоголевской «Шинели», то поэзия и проза одного из знаменитых городов века XX-го – Магнитогорска – родилась в «литературном бараке». Именно так прозвали времянку, где в первые годы Магнитостроя располагались редакции местных газет и куда по вечерам сходились участники первой в городе литературной организации – литгруппы «Буксир». Впервые про этот барак я услышал в конце 1970-х в городском литобъединении от Нины Кондратковской. Ушедший в 1973-м Борис Ручьев уже становился легендой, но еще жили в городе Михаил Люгарин и Александр Лозневой. Заметен был к тому времени уже и Александр Павлов – как молодой да ранний: его первая книжка «Предгорья», отмеченная областной комсомольской премией «Орленок», вышла в московском «Современнике» в 1976 году, когда автору было всего 26 лет. А через два года там же увидели свет и «Четыре окна» – первая книжка тогда 36-летней Риммы Дышаленковой. Время продвигает и равняет: сегодня они оба – в первом литературном ряду стального города, который не так чтобы постоянно, но время от времени все же ощущает нужду в образной и искренней духовной речи. Да и за магнитогорскими пределами известны: с тем же двухлетним разрывом, но уже в обратном порядке оба стали лауреатами Всероссийской премии имени Д.Мамина-Сибиряка. Верность пологому свету Не оспаривая правды Подобно магнитогорской литературе, Саша Павлов появился на свет и долгое время жил в бараке. «…В карагачах и домиках каркасных,/ на засыпных и тощих погребах,/ нас улочка растила ежечасно,/ да так, что швы трещали у рубах…/ Нас воспитали время да железо…». Однако отнюдь не только это объясняет ранний фавор молодого – так и хочется сказать, пролетарского – поэта. Дальнейшая биография тоже выстраивалась как будто по заветам ударников производства, призванных в 1930-е годы в литературу. После школы с отличием окончил индустриальный техникум, работал вальцовщиком в листопрокатном цехе Магнитогорского меткомбината, а после армии начал работать в газете «Магнитогорский металл», поступив на заочное отделение Литинститута. И пафос преодоления в тех его первых стихах подобен тому, что, если верить книгам и газетам тех лет, воодушевлял первостроителей или, во всяком случае, был востребован официозом: «В дождях захлебывались рощи,/ и так раскатывался гром,/ что травы взламывали площадь/ в асфальте полувековом…/ И душу схватывает зависть./ Вот так суметь бы в мир войти:/ в холодном камне бросить завязь,/ сломить его и расцвести!» Это стремление, высокие чувства к Магнитке и ее людям – стихи солгать не дадут – были абсолютно искренними. Вот, словно художник-передвижник, поэт рисует портрет дверевого у коксовой батареи: «Он кокс печет, глотая горький дым,/ его пирог не по зубам сластене…». Одухотворяет труд любовью: «Где вскипает металл/ в огнедышащей, жадной утробе/ и судачат гудки/ по пролетам на все голоса,/ я к тебе прибегал/ в шерстяной перепачканной робе/ и, смеясь, целовал/ в пламенеющих бликах глаза…». Стесняется долгой праздности в выходные: «…спасибо совести, что нам/ предстоит початый край работы/ с полночью и полднем пополам…». Павлов и теперь не собирается отказываться от ранней, посвященной памяти Ручьева поэмы «Под созвездием стали»: «Листопрокатный… Знаю, это слово/ для многих ни о чем не говорит./ Но в жизнь мою железною основой/ вошел его каленый монолит…». Чего отказываться, если и впрямь: «В крутых давленьях и в кольце огня,/ где сталь, хрипя, проносится ручейно,/ мне показалось, будто жизнь моя/ приобретает новое значенье…». И если, как раньше, «У подножья Магнитной горы…/дымит сквозь протаявший снег/ заводское горячее тело…» и остается в силе ощущение: «…Как бы жил я от дома вдали,/ если б все это было забыто,/ если б сердцем не чуял земли -/ удивительной силы магнита…». И в пролетах горячего заводского цеха, куда под наклоном пробиваются сквозь пыль солнечные лучи и где он «…понял вкус томительной воды,/ воды, как хлеба, сытной и соленой,/ ее прохладу в теле воспаленном,/ ее на робе светлые следы…», лирический герой Павлова по-прежнему видит свет, к сотворению которого причастен: «Пологий свет… Когда твои лучи/ меня среди металла оставляли –/ я рисовал их мелом на металле,/ чтобы они светили мне в ночи…/ И только днем, за цеховой стеной,/ ты грянешь вниз широко и отвесно,/ откованный не солнечною бездной,/ а на Земле, в глухую полночь, мной…». Из того же времени и тех же ощущений – первый венок сонетов «Хлеб и сталь»: «…И этот хлеб, и эта сталь, и пламя,/ и это небо вечное над нами -/ живое отражение во мне…/ Я победил. Я вновь готовлюсь к бою…». Остается с поэтом и память о войне, с которой отец вернулся инвалидом и которая еще долго напоминала о себе покореженным, а то и вполне исправным оружием, ожидавшим переплавки на так называемых скрапных площадках, что по этой самой причине так и притягивали к себе магнитогорских подростков. Об этом – пронзительная баллада «Шестьсот второй», в которой комбинатовский резчик, сам прошедший войну, кромсает привезенный с боевых полей подбитый танк: «…Он рвал броню упругим резаком,/ как будто вдруг из танковой утробы/ они шагнут светло и шлемолобо,/ такими же, как их запомнил он…». Об этом – история фотографии, найденной одним из таких послевоенных мальчишек в другом танке: «Там, с нее, как будто упрекая,/ ласково подмигивала мне/ женщина, красивая такая,/ и «Люблю!» - на тыльной стороне…/ Сетуя на возраст неказистый,/ пряча фото глубоко в столе,/ я до слез завидовал танкисту,/ может быть, лежащему в земле…». А потом, пойдя с отцом на рынок, «…среди воскресной заварухи/ я увидел пьяную – ее…». И потому через годы «…Снова память расправляет крылья -/ танк без башни, фото и война…». Об этой же памяти, обогащенной зримыми картинами более давних сражений XIV века – еще один венок сонетов, «Истоки»: «Посижу у Памяти-реки./ Заведу огонь, подсяду ближе/ и в неспешном пламени увижу,/ как мечи суровы и клинки…/ Никогда оспаривать не надо/ трудной правды тех далеких дней./ Сквозь века, погосты и ладони/ прямо в сердце мне пустили корни/ совесть, память Родины моей…». А вот корни близкие пересыхают. Старые бараки, их полудеревенский, хоть и околозаводской уклад и с детства забившийся в ноздри «призывный запах жареной картошки -/ нехитрый запах родины моей…», невозвратно уходят в прошлое. «…Места святые, добрые места,/ вы канете под крыльями заводов,/ а светлый дым затянет ваши годы,/ закроет тополиные уста…». И вроде бы все так и должно быть, а спичка почему-то вздрагивает над коробком и, сломанная, валится из пальцев… Проливной вишневорот Все эти стихи Александр Павлов включил и в свою четвертую и пока что последнюю книгу «Город и поэт», которая, очевидно, вобрала лучшее из того, что он написал за к тому времени – вышла в 1996 году на средства ОАО «ММК» – почти тридцать лет своего литературного труда. И она же свидетельствует: уже в начале, отдав дань советскому пафосу, поэт отнюдь не обольщался им. Вот проскакивает тревога в его осанне подсобнику: «Хвала тебе, разнорабочий,/ твоей осознанной беде/ в непостоянном и побочном/ непримечательном труде…». Вот чуть более поздняя антитеза в еще одной песне трудовому человеку: «…Не он ли самый – средоточье мира/ и счастье, и несчастие его?». И картина необъятной Отчизны – отнюдь не цитата из Лебедева-Кумача: «…Какая даль! Да за нее не страшно/ не то, что помереть, а жить и жить!». Так что картинами, подобными кадрам из «Весны на Заречной улице», павловские образы не исчерпывались и раньше. И гора Магнитная была для него отнюдь не только родником стальной индустрии: «В моем краю магнитные ветра/ и тишина нестойкая, скупая…/ У каждого своя Глядень-гора,/ и у меня… Которую скопали./ Магнит-гора… Отвернутым пластом/ ты падаешь в долину безымянно…/ Но за тобою прячется восток,/ и на ступенях дремлют ураганы…». Вот грачи вывели птенцов на заводской эстакаде: «И примостясь у порыжелых стен,/ у кирпичей, потресканных от зноя,/ справляет грач рождение второе/ и хитрым глазом смотрит на мартен…». А вот трехногий кот, живущий в прокатном цехе, а следом – и кот домашний, отгулявший лето и теперь купаемый матерью поэта в полынной воде. И снова кот, бесстрашно прыгавший вниз с высокой ветлы и надо же – угодивший на вилы и теперь погребаемый в огороде. И шутка вроде бы, а не совсем, ибо хозяйская душа места себе не находит, да и посвящено стихотворение памяти ушедшего человека… Вот летняя жара, когда в городе «пляжно» и пустынно и «…твой сад грузнеет от ранета,/ а мой – цветет по островам…». Вот наполненная жизнью ночь, когда в кореньях скрежещут жуки, в норе ерзают лисята, в краснотале возится ветер, в кадушку тенькает вода, в зашуршавшей лебеде ошалело вскрикивает птица, в душный перегной врезаются падающие без ветра яблоки и вообще земля ворочается, вздыхая на всю галактику. Вот «неповторимый, вяжущий… проливной вишневорот», когда чуть ли не полгорода вырывается в степные перелески на сбор поспевшей дикой вишни. А вот подобно этой вишне набухающая в небе непогода: «Лежал в степи и ни о чем не думал,/ раскинув руки и закрыв глаза,/ покуда стебель в темечко не клюнул/ и над стерней не собралась гроза…/ Рассыпалось обманчивое ведро,/ с шиханов темных отекла теплынь,/ и вдоль дорог, потресканных и твердых,/ от первых капель дрогнула полынь…». Очароваться размахом индустрии не позволяет и лежащий на ладони камень-подрудок – хоть пустой, а все-таки вещий: «…а достанет ли сердцу свободы, осененному этим огнем?». И знакомая с детства, а ныне убитая малая речка: «Прощай, Башик! Мы задними умами/ сильны и знамениты, как всегда./ И черными, пустыми берегами/ змеится ядовитая вода…». В житейском тигле Судя по стихам – ровным, однако несколько монотонным, что написаны, очевидно, в 1980-х – точных дат в книге нет, после яркого взлета Павлов несколько замедлился. А потом и безвременье 1990-х подошло. Очевидно, из этого периода – и подчас излишне лобовая публицистика, и утрата юношеского огня. «…Что варится в житейском тигле?/ Кто от беды нас отлучит?/ Один кричит, что мы погибли,/ другой: «Рождаемся!» - кричит./ И, сбоку озаряя чувства,/ кляня заплеванный большак,/ бредут культура и искусство,/ и зябнет горестно душа…» – сетует уже наученный жизнью поэт, не принимая в идущей сшибке ничью из сторон. И угрюмо усмехается: «…Менее дерзких повесят в тени,/ более дерзких – на солнце повесят…», представляя себя в другом стихотворении затаившимся волком, который обязательно стряхнет со своего загривка усевшихся на него захребетных погонял. И с горечью описывает конец старой станицы Магнитной, которая вначале была частично затоплена водой заводского пруда, потом долгие годы – известна в городе прежде всего желтым домом, а теперь заросла богатыми коттеджами, так что всего и памяти – новый мост через Урал, поименованный Казачьим. «…По кромке берега когда-то/ цвели деревья и дома./ А нынче волны в три наката/ да опрокинутая тьма./ И морось дымная – на плечи,/ а в клочьях тучи – звездный прах./ Лишь папиросы, будто свечи,/ замерзли в наших рукавах…». Собственное горение представляется поэту бессмысленным, особенно после того, как он был востребован: «…так на делянах догорают ветки,/ не нужные ни людям, ни земле./ Так дни дымят. Да что там дни – года!/ И злой обидой вспыхивает разум./ А там, в тебе, под мраком непролазным/ зачем-то светит юности звезда…». И, в конце концов, ту самую свою озаренную успехом молодость поэт в сердцах сравнивает с черной собакой, что повисла сзади, «не пуская в светлые края». А, несомненно, любимый им город предстает в образе Нарцисса: «…ты забылся больною душой,/ засмотрелся в лукавую воду/ облаками, покрытыми ржой./ Кто смеется, ухожен и прочен,/ кто плюет на твою высоту,/ кто тщетою навек приколочен/ к твоему золотому кресту./ Чудо-город. Печальнее мифа,/ видит Бог, не слагала земля…/ И летит, издыхая, шумиха,/ голодранцев твоих окрыля…/ То ли веры, как прежде в избытке,/ то ли некогда верить давно?…/ Очарованный гений Магнитки,/ разгляди за поверхностью дно…». Возвращение к себе «…жить по совести – надо,/ только выжить – нельзя…», – подытоживает поэт в тяжкую минуту. И все-таки уныние преходяще: «Ворвись в окно, мятежный ветер!…/ Ты выбрал самый горький час…». Этот ветер приносит апрельское возрождение: «Как я люблю эту пору, когда/ моются окна, блестят поезда/ и с непривычки видны чересчур/ стройные линии женских фигур…». И снова: «…Здравствуй, мутная степь! Здравствуй, малая птаха на камне!/ Я уже заболел этой рыжей, забухшей весной./ Растворите окно и потрогайте небо руками,/ распахните окно – и постойте немножко со мной…». И вообще, признается поэт, готовясь расстаться с уходящим веком: «Живу тогда, когда во мне/ ликует вечная природа…». Вместе с новой весной сплетается и третий венок сонетов, «Окна в сад»: «И это будет наша красота!/ Мы за нее немало заплатили. / Уже седины головы покрыли,/ но уверяю: ты все та же, та!/ И я все тот же, и душа чиста,/ хотя по жизни было столько пыли…/ Пою тебя и не могу не петь…». В сердце, осененное этим венком, водворяется мудрое спокойствие: «…Над переменами лица/ не стоит суетиться годы…/ Живи до самого конца/ вот так, как борется природа…». Несмотря на то, что «живем однова», и оттого пропадает сон и накатывают «ворчины», грядет просветление: «…И придет прозрение ко мне,/ только солнце из-за тучи брызнет:/ будет смерть, как продолженье жизни,/ с высотой природы наравне…». И даже зима – порождение той же самой жизни: «Гуси-лебеди мимо летели,/ уронили на землю метели…». И снова возникает запах из детства: «Вот и я отощал понемножку,/ повернул на жилище коня./ Это где это жарят картошку,/ это кто это дразнит меня?…». И можно посидеть, посмотреть на горы, подышать родниковым воздухом: «…Что найдем, увидим и услышим, никому с тобой не отдадим…». И торопиться можно медленно: «…Возвращаемся к себе,/ путь-дорожка дальняя…». Но чтобы пройти этот путь, не стоит путать самостояние с гордыней: «Раньше руку ломило,/ чтобы шапку ломать…/ Нынче надобна сила,/ чтоб ее удержать…/ Потому – перед Богом/ шапку тоже сними…». И ближнего и дальнего возлюби: «Осенило волной по затылку,/ сел на камень у пенистых вод…/ Запущу-ка я в море бутылку,/ может, к берегу где-то прибьет…/ Ты плыви, колыбель от спиртного,/ уподобясь во мгле кораблю./ А в записке одно только слово,/ незакатное слово «Люблю»…». Впрочем, с питьем поосторожней: «Смех и грех – на босу ноги валенки,/ время смуты, хмурь и неоглядь./ До того вчера «плеснул на каменку»,/ что башки сегодня не поднять./ Всякому вчера хотелось ратовать,/ опустив забрало до пупа./ Только нынче ни себя порадовать,/ ни врага, ни черта, ни попа./ Никого-то снова не осилив,/ зябнешь, папиросою клубя…/ Слава Богу, лишь одна Россия/ согревает думами тебя…». Вот и старый дед в доме у дороги надевает медали, даже не в праздник: «…Сквозь него прошла война, / память – красная цена./ А в глаза его заглянешь -/ только Родина видна…». И в этой-то Родине у Александра Павлова все и объединяется: «…Родина – это неброский цветочек,/ и тихой осенней порой -/ картошка в мундире да соли чуточек/ впримочку с водой ключевой./ Окраины детства, желанная проза/ прямой коммунальный уклад/ да желтые вдрызг заводские березы/ и дружный барачный парад…/ А Родина – это могила солдата/ вдали от дороги большой./ Несчастен, кто видит одни только розы,/ сия показуха – вранье./ А Родина – это и радость и слезы,/ и счастье, и горе твое…». Рубашка жизни Риммы Дышаленковой «Где все учтено и повито…» «…Я жизнь в Магнитке начинала/ на сортировке кирпича…», – цитирую по давней памяти одно из первых и, как полагалось по тому времени, тоже пролетарских стихов Риммы Дышаленковой. После этого начала была примерно та же дорога, что и у Павлова: приход в городское литобъединение, рекомендация Бориса Ручьева в Литинститут, работа на телевидении и радио, а потом еще завлитом в Челябинском ТЮЗе… Но, пусть глина и железная руда суть части земли и обе в своем переделе проходят огневую купель, все же кирпич и сталь – ипостаси разные. Кроме того, послевоенное детство Риммы прошло вдали от Магнитной горы: родилась в Башкирии, а потом, осиротев, жила в Сатке, где и окончила горно-керамический техникум. Так что, хотя и у Александра тоже есть немало стихов, свидетельствующих о прорыве к изначальным – для него дедовским корням, Дышаленкова унаследовала связь с почвой куда раньше и полнее. Что вновь и отразилось в ее очередной книге «Ангел времени», что вышла в Магнитогорске в 2006 году. О быте многих уральских городов, возросших вокруг старинных, преимущественно демидовских заводов, она пишет в одном из вошедших в эту книгу «Благочестивых сказов» так: «…они сами и кирпич прессуют, и сталь варят, и скотину многочисленную содержат, и между сменами и в выходные дни запасается народ сеном, ягодами, грибами…». Магнитка тоже отчасти переняла эту полукрестьянскую традицию, но далеко не всякое, если вообще какое-то магнитогорское дитя могло услыхать на окольном картофельном поле или садовом участке, к примеру, легенду о том, почему зерна в хлебном колосе растут лишь на самой его верхушке. Римме же ее приемная мать Анна Николаевна Черепанова поведала, что когда-то так и было – от самой земли росли, и хлеба было всем вдоволь. Но в такой грех впали люди, что разгневанный Бог наслал огонь. И только собака, бросившись перед Господом на живот, восплакала о своих щенках («…Мать вытирает платком глаза, наш отечественный голод вспомнила…»), и Он остановил пламя… - Она подарила мне, – вспоминает сегодня Дышаленкова, – чудо незабываемого устного сказа, где мало слов, но есть все сведения об устройстве мира. Если такими рассказами полна народная жизнь, тогда понятно, что глас народа – глас Божий… Вообще, вспоминает Римма в другом рассказе – «Богородицына пеленка», у взрослых, «обожженных войной и голодом», тогда «был свой сокровенный мир, куда не проникали ни политические агитации, ни веселая мода… На наши молодые дерзости они просто не обращали внимания… Они были хранители жизни…» От одного из таких хранителей – акушерки тети Шуры Ракитиной – она и услышала фразу материнской молитвы: «Как Христово полотенце, так и Богородицына пеленка…». И только со временем поняла всю ее глубину, в которой причастны друг другу пеленка новорожденного и полотенце, которым отер пот и кровь на своем крестном пути Спаситель. «Ну как после этого не вслушиваться в народную усердную мудрость, где все учтено и повито…» А сразу в двух семьях той же пролетарской и тогда еще атеистической Магнитки поэт нашла списки «Двенадцати снов Богородицы»: - Это памятник устного народного творчества. Хранится он под спудом целомудрия народного, собирают эти сны, как правило, женщины-матери, главные и безмолвные собеседницы Богородицы… Наверное, они живут в семейных архивах всея Руси… Бесписьменная цивилизация В эту мудрость, эту «просторечную и напевную мистику» народной религиозной поэзии и вслушивается сегодня Римма Дышаленкова, высоко именуя ее бесписьменной цивилизацией: - Она, подобно океану, наполняет каждый день, выращивает и формирует жизнь, несет ее волны буквально из уст в уста, а имеющий уши да слышит… «Господь с тобой, избушечка, Господь с тобой, хорошенькая…». Если эти слова дошли до нашего слуха, значит, их произносили во все времена: и в тесных бараках, и в крестьянских подворьях, и в городских полуподвалах. Где-то они существуют, эти плоды народного православия, и работают сегодня, …противостоят разбойничьему языку современных улиц… Православной в одном из рассказов оказывается даже обычная кошка, принадлежащая бывшей правоверной комсомолке, а нынче считающей себя избранной Всевышним и потому презирающей христиан мусульманке Жадре, что приехала в Магнитогорск из Северного Казахстана и торгует в одном из супермаркетов. Уж очень раздражала ее местная актриса Зина, которая в свободное от работы время мыла в этом супермаркете пол, «чтобы заработать на пару модных штанишек для себя и своей дочери… Совершенно непонятно было, за что Зину любит Бог, хотя Он вообще-то любит тех, кто ухаживает за планетой: моет ее и подметает…». А как привиделся Жадре однажды сон, будто бы сидит ее кошечка на высоком стуле и часто-часто истово крестится, так презрение и раздражение как рукой сняло… Это стихийное, далекое от ортодоксальности православие отнюдь не противостоит другим религиям: «…с возвращением религиозного мышления в наше общество я завела себе правило: по пятницам читать Коран, по субботам – талмудическую литературу, по воскресеньям – беспокойных христианских философов…» И в этом сочетании поэт, по ее ощущению, также следует собственной матери: - В пору моей жизни Московский Кремль был против Бога. Но моя мама далеко от Кремля, на Урале, упорно выполняла невидимую службу ухаживания за Богом… она считала своим долгом помогать женщинам рожать… Она же приходила на помощь, когда готовились большие домашние свадьбы… То же самое делали живущие рядом и татары, и казахи, но на свой мусульманский лад… Иноверие не препятствует столь же стихийным мусульманам-казахам взять с собой христианку, которой считает себя поэт, на поклонение могиле святого, по преданию встречавшегося с пророком Мухаммедом. И не мешает ей самой вместе с ними произносить арабские слова знакомой с самого детства молитвы. Да и сказка о еще одной чтимой могиле, где погребена девушка, которая вела спор о сущности Корана с самим шайтаном и, не уступив, погибла, далека от канонов ислама –«рассказывали мне ее люди, одиноко предстоящие перед Богом». Ту же самую народную религиозную поэзию Дышаленкова видит и в детском обычае шептать свои просьбы в «ушко Бога» - сложенные вместе ладошки, дырочку в дощечке или щепочке от выпавшего сучка, морскую узкую раковину… И слышит в рассказе об ангеле, что в образе девушки-монахини из неслыханного монастыря Святой Надежды явился парню-вертопраху и одной властной фразой о том, что тело девушки создано Богом, охладил «пылкость его жеребячью». - Вот ведь какая святость была в природе, – итожит автор. – Ангелы-хранители появлялись. А сказано-то как: «Монастырь Святой Надежды» – это ведь про невинных девушек сказано, про дочек наших… Они ждут, надеются… Самому поэту в детстве тоже явился ангел – Ангел Времени в солдатской гимнастерке, который подхватил ее на бесконечной для десятилетнего ребенка пешей стокилометровой дороге от Месягутово, где жила отправившая ее в эту дорогу сестра, готовая отдать жизнь за Сталина передовая учительница, до Сатки. И потом он незримо уберег ее, когда она жила у тетки и готова была свести счеты с жизнью от несправедливого обвинения. И еще раз – в разгар российского безвременья, в январе 1994 года, когда «все были беззащитны, беда могла достать каждого…» Та же поэзия – в библейской истории о Мельхиседеке, чей божественный дар врачевания признавался выше царского звания. И в истории о дерзком мальчике, что пытался расстрелять икону Богородицы и, нажимая на курок, увидел вместо нее мать – не попал, однако языка лишился. И в совсем не канонической, семейной, перешедшей к дочери от матери молитве той же Богородице. И в том уважении, что в своей бесписьменной цивилизации оказывает народ юродивым, к которым в деревне в свое время фактически причисляли и автора по причине ее сиротства… Небесный свод поэзии Время действия сказов и рассказов постепенно приближается к нашему, а в конце концов им на смену и вовсе являются явно газетные статьи, зарисовки и даже интервью. Единая ткань книги, однако, не разрывается, поскольку речь все о том же – той самой «рубашке жизни», которую образует поэзия, уже мировая. Именно из нее, из поэтических книг всех времен и народов от допотопных сказаний о Гильгамеше до наших дней выстраивает автор третий ряд книжных полок в своей новой квартире – и они образуют собою своеобразный небесный свод. Родившись в этой рубашке, Дышаленкова теперь помещает в нее и рецепт уральских пельменей и бульона, в котором надо их варить, внезапно обнаруживающий сходство с технологией приготовления, а главное смыслом армянского хаша. И нумерологические изыскания о простых числах, оборачивающиеся глубоким, а потому отнюдь не навязчивым нравоучением о том, что может случиться с магической единицей, увеличение которой приводит к любви, а деление, дробление, раскол – к ненависти. И размышления о 21-м сентября – дне Рождества Богородицы. И историю о матери, знающей время своего ухода – с весенними водами – и готовой к нему. И маленькую повесть в новеллах о Николеньке-спецпереселенце. И открытие глубинного смысла слов: - В хорошей молитве нет слова «нет»… На самом деле у Бога всего много, его главное творящее слово, или мысль, или дыхание: «Да будет…» В этой же рубашке – урок непрерывной бесписьменной цивилизации, преподанный в Пицунде писателем Сергеем Ворониным, когда не только автор, но и разбитной молодой шахтер с одного раза запечатлели в своей памяти непечатную в те времена песню про то, как «строгий спецотдел» спрашивал танкиста, почему он не сгорел вместе со своим танком: «…Вы меня простите, – я им говорю, – в следующей атаке обязательно сгорю...». И собственные впечатления от многих и многих встреч автор тоже «одевает» в эту рубашку. С безруким писателем Владиславом Титовым, который пишет, держа карандаш зубами, ибо печатать на машинке ногами – не те ощущения: «когда ртом пишу, то все хорошо чувствую…». С Героем Соцтруда Василием Овсянниковым, чье мастерство оказалось не нужно пэтэушникам, учить которых он был отправлен на пенсию. С тринадцатым директором ММК Анатолием Стариковым, перестраивавшим комбинат в 1990-е. С инженером и мыслителем Леонидом Турусовым, что, кроме всего прочего, оснастил энергетикой два металлургических завода в Иране и Пакистане. С живописцем Николаем Рябовым, который в споре со своими же магнитогорскими искусствоведами отстаивал свое и своих коллег не просто право выставляться в городской картинной галерее наряду со столичными художниками – право провинциального художника на имя в истории своей родины. Ведь и вправду «…живем мы в глубине уральских руд почти что безымянно. Имена же наши, может быть, только и остаются в семейных легендах и преданиях. Знания наши нужны только нашей территории…» Здесь – та же самая поэзия, находить и воспринимать которую Дышаленкова училась в Литинституте у преподавателей, которые «втолковывали нам немыслимые глубины и мифотворчества как свидетеля биологической цивилизации и создания мощного психического эгрегора рода, общины, народа…». Да и в стихах, которые перемежают и сопровождают в этой книге сказы и новеллы, она, такое ощущение, задается целью не создать очередное профессиональное произведение, а просто продолжить неиссякаемый поток народного бесписьменного творчества. «…Душа словесная моя, /Молись Кириллу и Мефодию…» «…Поклонюсь земле и небу,/ поклонюсь Борису, Глебу,/ да не будет над младенцами/ свирепствовать вражда…» «…Матушка небесная царица,/ я молю тебя о милом сыне./ Я твоя подруга и рабыня,/ Я прошу о мире помолиться,/ Матушка небесная царица…» И потому подзаголовок «проза-стихи», сопровождающий название книги, в конце концов перестает быть просто уточнением – мол, здесь не только проза, но и стихи, а проявляет свое истинное содержание. И в этом смысле слово «поэт» в отношении автора по-прежнему на месте. * * * Однажды понял, что долгое время – во всяком случае, в средней школе и после нее – отечественная история фактически начиналась для меня с 1929 года, когда возник Магнитострой. Может быть, виной тому отвратная система школьного преподавания. А вероятнее, именно такое состояние ума и души и было целью для тех, кто затеял в XX веке великий советский эксперимент. Если так, тогда Магнитогорск – возможно, с целым рядом других новых городов – можно считать не только промышленным, но и духовным звеном и результатом этого эксперимента. Успешным ли? Да как сказать. Наверное, время покажет. Вот уже и оперный театр в городе появился, и музыкальное училище стало консерваторией, и институты в университеты перешли. И в том, что вместе с откопанным неподалеку Аркаимом Магнитка оказалась в сердцевине древней Страны Городов, тоже можно углядеть великий смысл и целесообразность. Насильно и грубо вставленный во многовековую степь и в историю, город теперь все больше облекается ими, обнаруживая и восстанавливая прежние духовные корни и обретая новые связи. И одним из отражений и средств этого восстановления и обретения является его литература, благодаря которой стальное сердце Родины бьется вполне по-человечески. Андрей РАСТОРГУЕВ. Павлов А.Б. Город и поэт: Стихи. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1996. Дышаленкова Р.А. Ангел времени. Проза-стихи. Магнитогорск, 2006. 06,12.2006 |
