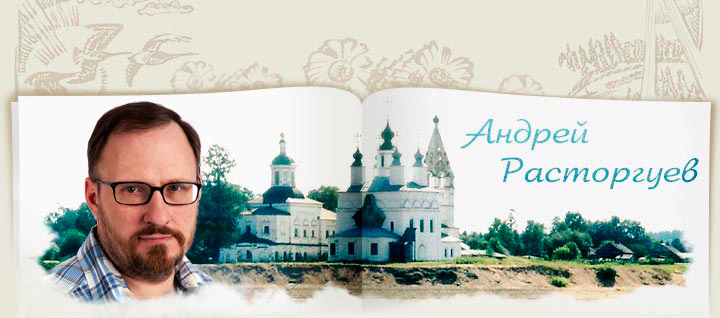
Возрождение нежности (о поэте Викторе Кушманове)  ОЗРОЖДЕНИЕ НЕЖНОСТИ ОЗРОЖДЕНИЕ НЕЖНОСТИХоть и жили мы с ним довольно долго в одном небольшом городе, видел я его редко. И, похоже, ещё реже – трезвым. Стихи он читал отвратительно – во всяком случае, в тот единственный раз в Коми пединституте, когда я слышал его: извлёк из кармана пару смятых бумажек, разгладил и не прочёл, а, скорее, пробормотал. Что именно, сейчас не вспомню, но помнится ощущение: сначала – раздражение от необходимости напрягать слух, потом – радостное изумление от яркой поэтической находки… Русский из зырян Это была лишь одна из тех находок, которые даже не рассыпаны по стихам Виктора Кушманова (1939-2004), но вместе с неповторимой интонацией образуют неразделимую ткань, воспроизводящую неброские, но такие притягательные цвета и запахи северной зырянской Руси. И домотканое суровьё, что перемежает в этой ткани нежный травяной и лиственный шёлк – от того же Севера да неровной кушмановской жизни… Дали мне чашу испить, Испытать благодать. В доме полы помыть, Рубашки прополоскать. Дали пять книг написать. Дали в траве полежать. Дали воды из ковша, Той, что просила душа. Дали спеть с другом про степь И на коне проскакать. Даже сковали цепь, Чтоб к родине приковать. Умыли лицо росой, Ноги речной волной. Дали волком повыть По женщине золотой. Книг у него в итоге вышло почти втрое больше. Про женщин не знаю – одной из круглых дат, под которые у нас поминают ушедших поэтов и пополняют собрания соответствующих апокрифов, ещё не случилось, а сами стихи пищи для пересудов об интимностях дают немного. Впрочем, это он наверняка о своей матери так, к судьбе которой возвращался снова и снова: «…ей было только двадцать восемь. / Сто раз могилу прятал снег/ И тридцать раз скрывала осень…». Да, совсем молодая… – можно сказать с сочувствием и легким страхом от того, что иногда вытворяет жизнь. Если не знать, что привезли ее, донскую казачку, жену белогвардейского офицера, на Север в телячьем вагоне уже с двумя детьми, которые вскоре умерли. И что второго мужа, коми учителя Виталия Кушманова, от которого она родила ещё троих, раскулачили. О дальнейшем один из немногих посвященных ему газетных некрологов говорит глухо – «ушла из жизни». Если произошло именно то, что чаще всего скрывается за этими словами – куда понятнее и пронзительнее не просто сыновний, а христианский призыв в маленькой поэме «Молитва о спасении»: «Люди..,/ спасите маму мою!/ Разройте её в сугробах/ Тридцать девятого года./ Найдите её в болотах,/ В гиблых желтеющих водах…». Себя тогдашнего он, понятно, не помнил. Но очень живо представлял: «…Мать хоронить везли на санках./ На нарах у окна без штор/ Ты спал, завернутый в портянки –/Сын спецпоселка Ниашор…». И, так вот отстранённо размышляя о себе самом, выводил из этого сна свою судьбу: «Чужую маму звал ты мамой. /Женился на чужой жене,/ Её ребёнка звал ты сыном./ И о своей родной стране/ ты говорил, как о чужбине…/ И жил на свете долго-долго,/ Как осуждённый срок тянул…». И обречённо признавал: «Тебе навек твоя отчизна/ Тот спецпосёлок Ниашор…». Спешно возведённый, этот посёлок столь же быстро почти без следа канул в Лету. А его сын вновь возвращается к нему – и мыслью, и наяву: «Поселок вымер. Всё ушло во мрак./ Один полуразрушенный барак/ Стоит в пустынном поле для бродяг…». А именно туда манят и «молчанье птиц печальных», и «колея дорог, пропахших иван-чаем», и «брусничная ботва, затоптанная зверем», и мелкий «серебряный и тихий» дождь… И именно городская малосемейка представляется тюрьмой, а «…это всё, хоть осени крестом, -/ Моё Отечество. Мой отчий дом…». Странная любовь к отчизне – родовая мета всей по-настоящему русской, российской поэзии. И сказать о себе – «…быть страны прекрасной сыном/ ты навсегда приговорён…» – с горечью могут многие отечественные стихотворцы. И посетовать, что «…Россия – громадная страна –/ никак не влезет в собственные тюрьмы…», могут тоже. Но о такой любви к именно Коми краю («…древний мой, тюремный край…/ край печальный и родимый…») «русский из зырян» Кушманов благодаря своей судьбе написал первым и, может быть, последним: «Как волку не отвыкнуть выть,/ Пейзаж по-северному серый/ Тебе вовек не разлюбить…». Кони в яблоках Рождённый, с шести лет росший в детдоме и проживший в этом крае до самого своего конца, он сросся и с зырянской деревней Пыёлдино, где жила его коми бабушка и где «…даже овца/ мордой похожа на мудреца…». И потому вполне имел право упрекнуть вышедших из её «пропахших черёмухою дворов/ …сорок кандидатов наук,/ Членкоров и даже профессоров» в том, что «…Выпили соки из деревеньки,/ Теперь в деревеньке – ни парня, ни девки…». И всё-таки отнюдь не упрёки, на которые Кушманов, казалось бы, имел основания, составили основу его поэтического чувства. Сирота, знавший, что жизнь могла и может прерваться в любой момент, он, похоже, воспринимал каждый миг как дар свыше. И тогда не только мать, но и каждая частичка жизни оказывалась драгоценной. И прояснялось, что «золотая рыжая девушка/ По названью – моя страна/ Осветила высокое небо/ И лесные озера до дна…». И что поэт – «навеки… каторжанин/ …горькой и светлой любви» этой милой и ненаглядной страны, чьи свет и вечная мгла полны странною силой. И на неё, что губила и любила, все его надежды. Тем более, если по его молитве донскую казачку Анюту всё-таки удастся отыскать, и её отпустят домой, и поднимется сильное солнце – «и снова начнётся Россия,/ обняв позабытую дочь…» Золотое детство, Юность золотая, Отшумевших песен Золотая стая. Отозрело в дреме Золото колосьев. Подокралась к дому Золотая осень. На душе – не дождик, А светло и тихо, Словно я закончил Золотую книгу. Но не все на свете Отгорело в медь… Пусть еще потерпит Золотая смерть. Сознательно подражал иногда Кушманов Есенину или эти мотивы родились из созвучия душ, теперь уже не спросишь. Во всяком случае, собаки у него точно свои: «Рождённый и воспитанный в бараке,/ Я помню, звёзды/ Навещали нас,/ Как добрые, бродячие/ Собаки…». И Полярная звезда тоже оказывается собачонком, просящимся на руки – как в другом стихотворении щенок, что всю ночь скулил под дверью, а к утру «стал таким, каким хотели./ Он в эту ночь собакой стал…» Это уже наверняка из детдомовского детства, хотя и оно вдруг отзывается яблочным запахом снега и воспоминанием о том, как само это слово – «яблоко» – долгое время ассоциировалось с конями. Ну, не завозили тогда в глубь северной тайги эти плоды, а сочетание «кони в яблоках» в книгах встречалось… А в 90-е рождается перекличка с Буниным: Нет камина и нету вина. Что с ней стало, не знает страна. Нет червонца, чтоб нищей подать, Хорошо бы собаку продать. Есть у Кушманова и другие прямые зарисовки того, по его же слову, глухого времени, где «…На всю страну программа «Время»/ Страдает, мучается, врёт…» и рэкетир гуляет в ресторане подобно недавнему парткому. «Мой северный, нежный, заплаканный град,/ Где чистый твой дождь и густой снегопад?..» – сетует поэт. Однако итожит: «…всё же неплохо – сменилась эпоха!..» Разруха этой эпохи была тяжела, но, возможно, всё-таки не могла сравниться с испытаниями детства: «…Вот какой обцелованы силой./ Вот откуда мы – дети войны…/ Ничего. И такая Россия –/ Наши сладкие грезы и сны…». Судя по его стихам, и в 50-е годы на лесоповале, где «вместе с комарами,/ С веселым матом, грустными глазами/ Брела в бараки родина моя…», и на лесосплаве иных рабочих, оказывается, интересовали не только водка и бабы: «…Мы говорили громко о стихах,/ как говорят незрячие о звёздах…». Так что четыре десятка лет спустя все суетливые приметы преходящего времени вновь отступали перед Родиной, которая «то ветром…, то дождём косым», что ни день, вспоминала своего последнего сына – единственного наследника «поля, рощи и травы,/ И одинокой в небе синевы...», и снегопада. А сын, которому, кроме всего этого, ничего и не надо, винился перед срубленным деревом, перед разлюбленной женщиной, перед двумя своими жёнами – «И, конечно, виноват/ Перед страной родною…». …Хожу меж этими И между теми, Не умоляя и не моля. Всю жизнь цепляюсь За эту землю – Всё же родная моя земля. Эту землю за то, что в ней лежит не вернувшийся с войны муж, целует в одном из стихотворений солдатская вдова. Эта земля в жизни въедалась поэту в ладони и под ногти, когда он – дважды в жизни – работал землекопом на стройке. Эта земля, к которой он «прилип с рожденья», вправе гнать или обнимать – но её «как чистую молитву,/ Никогда от губ не оторвать…». «…Женщина – лес. Женщина – озеро…» Второй раз, если верить уже упоминавшимся апокрифам, Кушманов взялся за лопату из-за женщины. Работая в отделе пропаганды и агитации республиканской молодёжной газеты, отправился в командировку писать о передовиках производства: «…Я был рабом двух областных газет./ Писал, что скажут, честно, не для денег…». Но, заехав в одну из деревень, написал отнюдь не восторженный, а сочувственный материал о девушке, которая с покрытыми шрамами руками и распухшим от мороза лицом изо дня в день по узкой тропке ходит с вёдрами к реке за водой, чтобы напоить три десятка коров… Сочувствие обернулось обвинениями в крамоле и увольнением – к счастью, шёл уже 1964-й. А в стихах о женщинах и о любви к ним – осталось и, углубляясь, обратилось нежностью. Что называется нежностью – Степь или лес, или сон? Вы целовали женщину, Промокшую под дождем? Что называется нежностью – Поле, июль, иван-чай Или на стуле забытая Печальная мамина шаль?.. Что называется нежностью – Ветер на подоконнике? Может, в вечернем тумане, Как боги, бредущие кони?.. Как жалко, что нежность нельзя Выучить наизусть… Благодаря лесному ветру, что дал ему песню «на радость и погибель» и, как дерево, одел его листвой, поэт видит эту нежность плывущей в воде женщиной. А женщина, выходящая из воды, «От солнца золотиста и прекрасна./ Ее ласкают травы, ивняки,/ Она так хороша, что даже страшно…». Видя женщину, чьё утро только начинается «и что готовит ей день – неизвестно», поэт молит: «Дай ей бог хоть немного блаженства…». Ведь Бог опять же «…с нежностью и болью,/ С сияньем синих глаз,/ С щемящею любовью/ Глядит из тьмы на нас…». Хотя и «не понимает,/ откуда мы? Зачем?/ …Он выше всяких судей,/ Но вот одна беда:/ Он на земле, где люди/ Не будут никогда…». Плачущей синеглазой женщиной предстаёт река Сысола. Простое имя любимой поэт проносит на поцелуе, отыскивает в овраге, «в диких зарослях черёмух,/ в старом брошенном бараке,/ на иконах получёрных,/ и в бродячей пляске ливня,/ и на пятке у ребенка…/ На белеющей берёзе…». И снова отголосок тревоги и почти животной жажды: «…В тишине глухой по-волчьи/ Я твоё провою имя…». Ведь поэта «...буквально трясёт от желанья/ к единственной женщине русой,/ в сандальях на босу ногу,/ пропахшей цветами насквозь…». Но есть и «…желание заплакать,/ если нежно глянешь ты…». И ревнивое предостережение тому же ветру, уже весеннему: «…не хмелей,/ когда ты волосы целуешь/ у скромной женщины моей…». И преклонение перед деревенской дурнушкой в сапогах и телогрейке: «Боже мой, и откуда в ней сила,/ Чтобы жить. Подпирать небосвод./ Но живёт. Ещё кормит Россию./ Иногда даже песни поет…». Явно ощущая избыток жёсткости и жестокости в окружающем мире, поэт словно стремится залить его волной нежности, рождённой им самим. Весь мир – лес, озеро, снова река в солнечном блеске, небо, звёзды, снег, дождь, медовый запах, слёзы и радость – оборачивается женщиной: …Женщина – жизнь. Женщина – Родина, С зеленью ласковых ивовых кос. Голос её: – Где ты, мой родненький? – Всё ещё слышит распятый Христос. И с «рыжей, перезревшей в девках» поэт говорит о рыбах, живущих в речной глубине, и о том, как лось признаётся в любви лосихе. И летом, «облепленный птицами, праздничный весь», чувствующий себя юным и сильным, предлагает другой: «…Живи ты в траве все лето/ и спи на моей руке…». А на его исходе восклицает: «..Ах, какая осень, боже,/ как любовь моя…». «И пальцы тонкие её…» Когда идут тёплые дожди, «Собирает нектар свой пчела,/ Пот на борозду пахарь роняет…/», жизнь светлеет и «Если ранит, то светом лишь ранит…». Хотя, говорят, сам Кушманов ранил, бывало, и словом, и делом. С одной стороны, трудно ожидать, что детдомовец может оказаться облаком в штанах. С другой – и впрямь «Очень быть трудно поэтом/ Там, где народ молчалив…» и где по земле идут какие угодно люди – сытые, глупые, умные и трижды злобные, а добрые «невидимо прячутся» в деревьях или в траве. Вот, может быть, и он прятался, беззащитно открываясь только в стихах. И, благодаря жизнь за то, что была «умней прокурора и добрее Кремля», удивлялся: «Чем горе страшнее,/ Тем сердцу больней…/ А Родина, странно,/ всё милей и милей…». И сквозь рваные одежды этой жизни, смеющейся «сквозь лицемерье и рваньё/ …целовал, что мне осталось,/ её угрюмость и усталость,/ и горечь сладкую и радость,/ и пальцы тонкие её…». И подсказывал девушке – может быть, той же рыжей, а то и самой стране: «Не горюй и не плачь, потерпи,/ Лучше новое платье купи…/ Засияй вся от пят до лица,/ Пусть не будет на свете конца/ Невезеньям проклятой любви –/ Погорюй и поплачь. Поживи…». По его стихотворным словам, записанным «в цветных зелёных травяных тетрадях», он и сам всё время слышал мамино: «А ты терпи, сынок…». И сам над холодной, пропахшей цветами водой и под дальней звездой над чистыми лесами, внимая стеклянному звону осин, перед озябшей рябиной и печальной ситцевой и сатиновой синью озёр говорил себе: «Но это грусть твоя и родина, Кушманов…/ Под свой неслышный вой целуй траву и листья./ И снова, дорогой, живи. Светло. И чисто./ Живи, когда в душе и путано, и сложно./ Живи, когда уже и жить-то невозможно…». И заклинал остающихся: «…Жизнь коротка, жизнь коротка, жизнь коротка,/ Жизнь коротка. Любовь еще короче…». И снова троекратно: «…жизнь коротка./ Но этого никто не понимает…». Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, член Союза писателей России. Кушманов В.В. Прости. Стихи разных лет (серия «Звезды Севера»). – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2003. 05,08.2007 |
