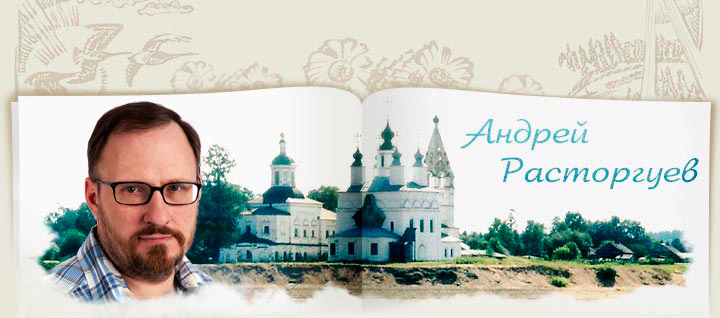
Жить по-человечески (о стихах и прозе Александра Чуманова)  ИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИпытаются читатели и герои Александра Чуманова Разобщённость отечественного литературного пространства, не позволяя многим достойным авторам получить общенациональную известность, в то же время даёт возможность в любой момент представить любого из них как новое открытие – во всяком случае, читателю, который впервые видит и слышит их имена. Вот и я, грешный, открыл для себя уральца Александра Чуманова, только вернувшись с Севера, где провёл большинство из тех двадцати лет, которые миновали со времени выхода его первой отдельной книжки. Вначале он заочно – через купленный мною сборник «До востребования» – представился поэтом, а потом – уже лично, вручив только что увидевшую свет «Житуху» – и прозаиком. Судя по дарственной надписи, главной для себя Александр ощущает вторую ипостась, почитая себя в ней «изрядным», а в первой – с некоторыми оговорками. Так оно, по-моему, и есть. Однако не только выдающаяся из общего ряда чумановская проза, но и крепкие, местами шершавые стихи не оставляют места для высокомерной снисходительности, являя, по сути, единое воплощение цельного способа жить и думать по-человечески в сегодняшней российской провинции. Сиречь практически на всей родимой территории за пределами Московской кольцевой автодороги. В духе народной оперы Такого обильного снега не видывал я никогда. Не видывал сроду, чтоб с неба вот так – за звездою звезда срывались и падали звёзды не камнем, а плавно паря, лучами цеплялись за воздух – непрочную ткань января… Когда-то, конечно, растает и лёд на окошке, и наст… Но звёзд невесомая стая невидимым пеплом на нас уже, очевидно, осела. Осела и мне на тетрадь… Светает… Хорошее дело. Пора уже снег убирать. Похоже, подобная лирика прорывается у нынешнего Чуманова нечасто – во всяком случае, в этом его стихотворном сборнике. Разве что ещё сильнее – в строчках о мимолётности жизни, ощущение которой свойственно, наверное, всем, кто познал к её середине или исходу ценность каждого из мгновений. Впрочем, хотя небольшой городок возле Екатеринбурга и перенял у здешней речушки склоняемое по-женски имя, живущему в Арамили мужику нежности вроде бы как и не пристали. Вот и собственной жене после долгих прожитых вместе лет этот самый мужик под теми же звёздами вновь признаётся в любви совсем по-вахлацки: «…между прочим,/ мы были счастливы… Кажись…/ Или – не очень?/ Однако – я тебя всегда…/ Ну, в общем, это…/ Гляди, гляди: летит звезда!../ Да всё уж. Нету…» А вот нежно относиться к рыбалке те же самые мужицкие заморочки вполне позволяют. И к природе, на которой она происходит, тоже – например, к тихому озеру Аллáки, «где колют острогою щук/ простосердечные татары…» и «даже небо и трава/ сливаются в счастливом браке…». В посёлке, из которого Арамиль отнюдь не давно возвели в городской разряд, и дипломированная-то интеллигенция «врастает постепенно в почву –/ сперва плохого огорода,/ потом ухоженного сада…» и не только забывает про вернисажи и новые книжки, но и старые-то мечтает сбагрить кому-нибудь. Чего же ждать от недоучившегося инженера, за какие-то провинности, а то и просто за нерадение сосланного из института в стройбат, а потом, похоже, надолго задружившего с алкоголем? Во всяком случае, именно таким рисуется лирический герой Чуманова, появившийся на свет после войны, но всю жизнь ощущающий на себе её отдалённые последствия: «…Меж водочкой и портвейном/ родителей я жалел..,/ но не любил. А это –/ страшнее самой войны...». Ему и успешный – две дочери как-никак, и внуки уже – результат семейной жизни не приносит отрады, ибо старая зырянского, похоже, корня фамилия прервется на нём: «Угас бесславно мой старинный род./ Я – патриарх на колченогом стуле…/ Переходили речку Лету вброд,/ и все в ней поголовно утонули…». Так что воспоминание о берестяном чумане, а, по-русски говоря кузовке, туеске ли оканчивается печальным: «Родина – пермского тракта верста…/ Да и сгораю-то – как береста…». Семейству от него тоже мало проку: «…Я, вообще-то, был всегда поэтом,/ но что такое для семьи поэт?..», тем более теперь, когда «…непотребное старьё,/ что раньше было мускулистым телом/ и безраздельно подчинялось мне…», мешает даже отправиться за грибами. И это усугубляет горечь трезвого безжалостного признания: По существу, вокруг меня – пустыня. Живая да и мёртвая вода иссякли. Только в небе ярко-синем сияет равнодушная звезда. Да ветер. Да бессмысленная почва. Да ветром уносимые слова. Здесь никакая не привьётся почка, и никакая не взойдёт трава. Петляет бесконечная дорога. Песок заносит моментально след. По существу, я нужен только Богу. Но Бога-то в наличии и нет, который душу осторожно вынет, открыв тем самым новую главу… По существу, вокруг меня пустыня. Пустыня и во мне, по существу… И всё-таки этот рефлектирующий недоделанный интеллигент – лишь сценический образ, маска, хотя и, похоже, приросшая к лицу: «Ну, а мне в этой пьесе выпало/ сотворить максимально выпукло/ «арамильского мужика»,/ замороченного слегка…». Глумясь в этой шутовской маске над округой и самим собой, поэт на самом деле отводит-таки себе роль куда более высокую: В данной точке мирозданья, ото всех других отличной, исполняю, горемычный, персональное заданье. Все спокойно. Баю-баю, бедняки и нувориши. Образцово прозябаю по распоряженью свыше. Прозябаю, прозябаю, словно врытый в землю витязь… Порезвитесь, раздолбаи, порезвитесь… В общем, не «глаголом жги сердца людей», но из той же оперы. Или её более легкой сестрички, которая в Австрии, например, прямо именуется оперой народной, но тоже повествует о высоком – подобно чумановской, по его собственному определению, «плебейской поэзии». Соответственно этой традиции и надетой на себя маске, автор видит в себе кустаря, который бывает «в читающих семьях/ собеседником и сострадальцем,/ проповедником, комедиантом,/ долгожданной хорошею вестью…». А что слог не слишком возвышен, то просто вдобавок «…годы к просторечьям клонят,/ как ветку долу клонит снег…». Однако читающих семей в провинции не так уж и много – вот и с посмертными своими переизданиями автор рекомендует не спешить: «…Пусть лучше выпьют за меня ханыги!/ Нечитанные книги – это фиги/ убившему на них свои года,/ что хуже забытья…/ И всех моих писаний городьба/ пускай не давит никому на плечи,/ поскольку – не судьба так не судьба –/ не Пушкин ведь, не Чехов же – и неча…». Да что там – от своей же творческой братии похвалы не дождешься: «…Наконец-то скажут мне писатели:/ «Поздравляем, гениально, Саш!». Но братия эта всё-таки есть – рабы и герои словесности, её же чернорабочие, «до водки и женщин охочие», инвалиды чернильной удачи. И пускай они, хотевшие «ни мало, ни много –/ способствовать Замыслу Бога…,/ легли, между прочим, костьми,/ чтоб нелюди стали людьми…», пускай они не вспомнят о тебе, который «во льдах и песках Арамили/ растворился, как света комок…». Всё равно ты – один из тех кочетов, что «в обличье человеков/ в глухоте проделывают брешь…». А в другую минуту – старомодный Робинзон Крузо, а то и кое-кто повыше: «В шестиметровой мастерской/ никто учить меня не волен…/ Манипулирую тоской/ и звоном нищих колоколен,/ и нескончаемым дождём,/ шуршащим в садике убогом…/ Я тут работаю вождём,/ а временами даже – богом…». С настоящим Богом, правда, у него отношений как бы никаких и нет: из атеистов в сильно верующие перескакивать не торопится, вдруг находя, к примеру, удивительным то, что за Прощёным воскресеньем следует Великий Пост. Ведь и вправду: только вроде бы простили друг другу все грехи и обиды, а тут опять повод скорбеть о человечьем несовершенстве. Что же до внешней обрядовости, то, по его мнению, Господь и так «видит, что у нас к чему./ И золотые купола да звоны,/ я думаю, до лампочки ему….». И всё-таки в часы уныния, когда ощущает, что его «…душа – автограф на воде…/ по сути дела – плеск весла» и что «я тоже скоро дымом стану,/ килокалорией тепла…», или видит себя невостребованным письмом, которое разминулось с адресатом, или сознаёт, что «…нет, братцы, истины в вине,/ как нету, видимо, и выше…», всё-таки находит поддержку: «…Бога нет. Но сколько душ-то/ прорывается к нему!». Эта поддержка – и в рождении нового жизненного круга, когда «в двухтысячепервом году» он, уже дед, ведёт внука в ту же школу, «в которую сам был ведом/ когда-то в полсотни седьмом…». И в том, что «...так вот выглянешь в окошко/ в феврале, в последних числах,/ и невидимой гармошкой –/ в сердце звон простейших смыслов…». За окошком, правда, ещё много чего на глаза попадается – дворцы новорусские, например: «Граждане возводят терема –/ налицо отсутствие ума…/ Я так, например, уже предвижу/ роковой реванш злосчастных хижин/ и за терема не поручусь –/ это Русь. Она такая, Русь…/ Наплевать бы – только всякий раз/ «мочат» за компанию и нас…». Опять же не возвышенно, согласен. Но что поделаешь, коли пейзаж таков – что исторический, что современный? Причем в натуре, заметим по ходу, он наверняка сопровождается немалой матерщиной. Однако, в отличие от многих именуемых современными авторов, которые то и дело норовят вставить это сопровождение в строку, Чуманов, несмотря на свою подчёркиваемую мужиковость, обходится без него. И в том подчёркнуто старомоден: «…обязан же кто-то ведь/ проповедовать вечное…». И пусть никому, даже себе, ничего за жизнь не доказано, пускай увязанная бечёвкой пачка твоих писем «о любви, о трудах, о борьбе» до скончания века никем не будет прочитана – «…сердце, покуда стучит оно,/ всё не может…/ без полёта, смертельно опасного/ за пределы тоски. В никуда…». От этой тоски автор способен и не решившуюся кануть в омуте васнецовскую Алёнушку вопросить: «…Алёнушка, не лучше утопиться ли,/ покудова не грянула зима?..». Однако с высоты и отдаления того самого полёта видно, что лучших, чем нынешнее не лучшее, времён на Руси с ходу и не сыщешь. Ведь и прежде «случалось, что Святой Георгий в стремя/ не попадал ногою иногда…». И поскольку «…с любимым, но свихнувшимся Отечеством/ становится, увы, не по пути» прежде всего по возрасту, «…хочется уйти по-человечески,/ а не на четвереньках уползти./ Не звякая дурацкими медалями,/ не клянча у правителей гроши –/ уйти под флагом пламенной души,/ которую антихристу не сдали мы!». И даже от последнего собутыльника, с которым приходилось делить компанию – «как от Родины не отрекусь…». Тоже, между прочим, вполне мужская, мужицкая позиция. Без чернухи и порнухи Уже по стихам заметно: кроме всего вышесказанного, а то и прежде или чаще того удерживаться в пустынной провинциальной жизни автору помогает всепроникающая ирония. Вообще: по степени её концентрации в одной смысловой единице печатного текста Чуманов – надеюсь, специальные филологические изыски, которых он достоин, подтвердят – вполне может потягаться с записными московскими шутниками. А если считать иронию непременным признаком постмодернизма, этот арамильский мужик – самый крутой постмодернист и есть. Но поскольку во всём остальном – в передирании и выворачивании цитат, например – по причине опять же своей реалистической старомодности отнюдь не усердствует, то – чем чёрт не шутит? – вполне может представить богатый оригинальный материал для сопоставления со, скажем, Салтыковым нашим Щедриным. Правда, «Изергильские зори», именованные сказаниями о муниципальном образовании, будут потоньше «Истории одного города» – так и время нынче иное. К тому же Салтыков, который Щедрин, во многих городах живал и служивал, тем паче вице-губернатором. А параллель между Изергилью и Арамилью очень уж прозрачна, Чуманову же там ещё жить и жить, и отнюдь не в административных чинах... Впрочем, власти в этом МО какие-то уж супер-продвинутые оказались: сами же и спонсировали издание «Житухи», в которую это, казалось бы, насмехательство включено. Чем, по-моему, заслуживают немалого уважения – как минимум за понимание возможностей отечественной литературы в том, что на современном малолитературном русском языке называется позитивным позиционированием территории. Само это название – Изергиль – казалось бы, опровергает выданную выше мысль о несклонности автора к цитатам. Однако, утверждает он, это пролетарский классик «здорово подгадил.., дав звучное имя… одной древней болтливой старухе». Тогда как изначально оно якобы принадлежало то ли татарской, то ли башкирской красавице, которая от роковой любви бросилась в воды местной реки Впреть – тоже не слишком завуалированная параллель с названием реальной Исети, что принимает в себя в черте города арамильские воды. Качество которых – уже объединённых – «в последние годы из-за паралича промышленности вышестоящего губернского центра стало неуклонно повышаться», в результате чего в местном пруду расплодилась рыба, и расплодившимся в ответ рыбакам попалась на крючок в образе старой русалки та самая красавица. Якобы присутствовавший при этом автор только описание этой поклёвки и её благодатных последствий и ставит в заслугу себе. Происхождение же остальных баек приписывает землякам, явно узнаваемым не только ему, но и читателю, в том числе никогда в его богоспасаемом граде не бывавшему. Наверное, потому, что грады наши, МО по-нынешнему – словно семьи, о счастье и несчастье которых рассуждал, насколько припоминается, уже другой классик. Из Арамили перебралась в своё, советское время в Екатеринбург, тогда, естественно, ещё Свердловск – теперь уж всё своими именами – и Алевтина Никаноровна, одна из героинь романа «Три птицы на одной ветке». Для неё это конечный пункт некороткого жизненного пути, что начался в простуженном столыпинском вагоне, везущем раскулаченных в неведомую даль: «когда рельсы в конце концов кончились, она успела привыкнуть к смерти и маленькое её сердце, окаменев, перестало расти, отчего в нём уже с тех пор мало места для излишеств, хотя главную свою функцию этот орган до сих пор выполняет на редкость ответственно…». Крестьянскими корнями можно было бы, конечно, объяснить и её ежегодное копание на четырёх дачных сотках, тем более что именно на свою кулацкую родословную она ссылается, щедро расплачиваясь с иногда призываемыми на помощь соседями. Но тут, скорее, опять же свойственное нынешнему «российскому старчеству» стремление не выпасть из жизни, не замкнуться в своих, кому их сколько в итоге досталось, квадратных метрах. Хотя, принципиально гордясь своим происхождением, бабушка – имеются, понятно, и ещё два, а потом и три поколения – «теперешним званием екатеринбурженки ничуть не дорожила», сведя жизненные требования к наличию воды и тепла да близости магазина и собеса. А вот дочь Эльвира после долгих кочевий с родителями по разным сёлам да посёлкам и жизни в студенческой общаге прониклась свердловским патриотизмом. Какового, впрочем, собственной дочери Софочке передать не сумела, и та после школы рванула учиться в «Европу» – то бишь Рижский институт гражданской авиации. Потом аспирантура в Москве, вполне прагматичное замужество, свадьба, во время которой прилетевшую с Урала мать включают в процесс, а бабушку оставляют в гостинице, чтобы она своим плебейским видом не унижала внучку в глазах коренных москвичей… Нет, на второй день новобрачные с ней, конечно, встречаются – в метро, тащат в какой-то новостроенный выставочный центр и, вымотав, наконец-то получают вожделенный конверт и расстаются – опять же в метро… В общем, ситуация вполне понятная для тех, кто сам хоть раз ощущал на себе, что Москва не подвержена не только слезам, но и вообще каким-либо искренним душевным проявлениям. Впрочем, Алевтина Никаноровна тоже воспринимает эту ситуацию как данность – и отнюдь не только в силу жизненного опыта: «…лишь оскорблённая и униженная любовь способна на смертельную обиду. Здесь же никакой любви не ночевало. Ни с той, ни с другой стороны…». И всё-таки в гостиничном ресторане, хватив – но только ли поэтому? – сто пятьдесят граммов коньяку, вдруг неожиданно для себя изливает душу соседям по столику. Тоже, очевидно, провинциалам, поскольку «история показалась им.., мягко выражаясь, нетривиальной…». Завязавшийся таким образом после, что и говорить, весьма объёмной экспозиции сюжет и развивается неторопливо, не слишком, казалось бы, выходя за пределы матримониальной темы. Только, однако, расслабишься – и жизнь героев опять делает нежданный поворот, хотя и не в стиле экшн, а вполне в согласии с нынешними реалиями. Какая россиянка нынче, к примеру, хотя бы теоретически не может сходить замуж за австралийца? Или какому из дальних тьмутороканских родственников Екатеринбург не может представиться столицей, пусть и одной из многих отечественных столиц? Поскольку плотью повествования при этом остаются столь же неспешно и тщательно выписываемые бытовые подробности, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы различить за пристальным вниманием к ним сознательно используемый не то что приём, а целый литературный метод. Впрочем, одна из более ранних публикаций автора даёт нам возможность сослаться на него самого. Именно «классиками клятый, самозваными литературными аристократами люто презираемый» быт он с вызовом именует своей основной ценностью и опорой: «Здание бытия выстроено из кирпичиков быта, поскольку иного материала просто-напросто не существует… Быт, если угодно, это любовь в самом широком смысле слова, это семья, это хлеб насущный, это возможность, воспроизводя потомство, никогда не умереть. И литература вне быта, вне политики, вне жизни, хоть ты ее французскими духами с головы до ног облей, отчетливо шибает мертвечиной. Даже самая мастеровитая…». То же внимание – в своеобразном «медицинском» цикле, который создают в «Житухе» кардиоповесть «Курс терапии» и уропоэма «Ниже пояса – тоже человек». Жанры определены автором опять же с явным, как сегодня говорится, стёбом – в том числе над нынешним «мейнстримом», в значительной степени обращённом к функциям тазобедренного отдела человеческой плоти. Стёб, однако, незлобный и в большей степени над собой, а если над человечеством – то самую малость, для коррекции завышенной самооценки гомо сапиенса: «А в курилке-то было… В общем, как бы картина, случайно не написанная Иеронимом Босхом! Мои задумчиво-сосредоточенные собратья по урологии с привязанными к ноге бутылочками, частично наполненными характерно бурой либо янтарной жидкостью, поступающей по шлангу, восходящему к святая святых. Блаженно улыбающиеся, как всякий вернувшийся с того света, обитатели кардиохирургии с распиленными, но потом аккуратно сшитыми грудинами. Но самое сильное впечатление производили, конечно, чем-то напоминающие терминаторов суровые мужики из отделений челюстно-лицевой, а, более того, нейрохирургии. Судя по причудливому шитью, украшавшему их рожи и бритые черепа, они уже никогда не должны были умереть. Какая может быть смерть, если хирурги наши вот так непринуждённо слесарят и плотничают в недрах самого божественного компьютера!..» Или: «…да, ребята, бывают, оказывается, ситуации, когда ощущаешь себя мужчиной в цветастых семейных трусах, а без них – жалким дрожащим бесполым существом…». Или ещё: «…лежишь дурак дураком, а тебя катят по коридору… медперсонал, взирающий на нашего брата, как на неодушевлённый предмет…». И так далее в том же духе – по всем этапам технологического процесса исправления отступлений организма от божественного образца, который проходит герой повествования. Явно немногим отличаясь от автора, он попутно позволяет себе весёлые «фенечки» по поводу не только клизмы или интимной стрижки, но и бурной внутренней жизни писательской организации, тем самым вовлекая в тот же почти постмодернистский оборот не только Гоголя со Щедриным, но и Булгакова. А то вполне по-житейски и шире захватывает: «Наша верховная власть и наш футбол – близнецы-братья. То и другое – кладбище народных надежд…». Впрочем, тут же опять на себя переводит: «…сон мне накануне операции приснился про Президента. Будто мы с ним «tete-a-tete», и я… В общем, даже не подозревал, какой могучий, но совсем не реализованный верноподданнический рефлекс дремлет во мне всю жизнь…». Из этого быта и стёба, однако, и здесь, и в романе, и в других повестях и рассказах, вошедших в книгу, постоянно пробивается, прорастает то душевное, духовное естество, что помимо способности к саморазрушению отличает человека от прочих земных тварей. В обезличенный, обезлюбленный мир снова и снова возвращается любовь – или хотя бы её желание, ожидание, в худшем случае тоска по её нехватке. И возрождается она в тех же самых людях, которые вроде бы безнадёжно укрепились в исключительно потребительском отношении к своим собратьям. Литература, утверждает и, что самое главное, подтверждает Чуманов, сродни религии и «должна служить… не государству, не народу даже, а – Добру. В первородном смысле этого слова… Чтение литературного произведения должно сопровождаться пусть не глобальным, пусть микроскопическим, но катарсисом, внешнее проявление которого – слёзы и смех. Причем непременно вместе! Ибо что есть жизнь, как не смех и слёзы, что есть человек, как не слёзы и смех!». Рискну утверждать: благодаря точности и глубине, которых достигает Чуманов в своём описании типичных антуражей и персон нынешней отечественной периферии, его «Житуха» вполне может претендовать на роль своеобразного эпоса современной российской провинциальной – да и только ли? – жизни. А особые, жизнеутверждающие свойства его иронии вполне позволяют назвать автора родоначальником нового – во всяком случае, для прозы нынешнего века – литературного направления. Не всё же нам пробавляться чернухой и порнухой, что расцвели в смутные 1990-е годы… Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, член Союза писателей России. Чуманов А.Н. До востребования. Книга стихов. – Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2002. Чуманов А.Н. Житуха: Проза текущего века. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006. 10,09.2007 |
