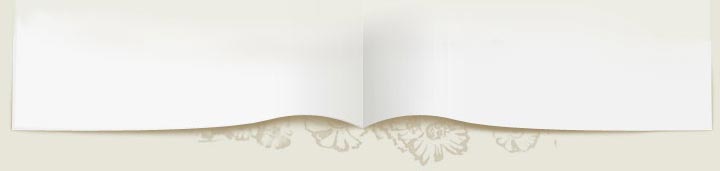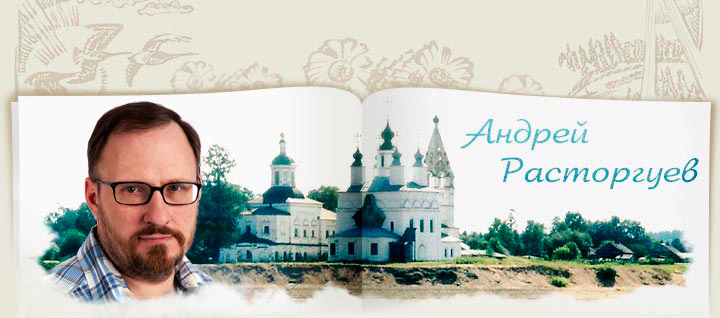
"Я с тобой - поневоле - живее живых..." (о книге стихов Елены Новожиловой "Школа искусств") «Я С ТОБОЙ – ПОНЕВОЛЕ – ЖИВЕЕ ЖИВЫХ…»Погружаясь в жизнь современной Москвы, поэт Елена Новожилова сохраняет опору на традицию Бог весть, какими дорогами ходят нынче по стране поэтические книжки. Вот, к примеру, сборник стихов Елены Новожиловой «Школа искусств» – издан в Москве тиражом всего в 350 экземпляров, а залетел же каким-то образом ко мне на стол… Слукавил самую чуточку. Если не считать Интернета и журнальных публикаций, и то лишь отчасти, нынешняя поэзия и вправду стала сродни переписке первых христиан-подпольщиков или большевистским листовкам: прочитал – передай товарищу. С этим же сборником всё понятно: автор, как следует из краткой справки, живёт в Москве лишь с 2000 года, а родилась в Челябинске, для меня тоже отнюдь не чужом. Оттуда по эстафете и пришла ко мне тонкая книжка – вторая в литературной биографии по годам уже относительно зрелого автора. Впрочем, если продолжать педантично копаться в сообщаемых безо всякого жеманства, но и вызова тоже деталях, тридцать стукнуло лирической героине Елены, а сама она на год помладше. Однако уже пробует губами и языком словечко «юбилей»: «Тридцать лет… Над этим многоточьем/ умолкает всякий соловей./ Так заведено ведь: дни короче,/ ласки реже, слёзы солоней…». Желание заглянуть вперед, проверить ногою крепость предстоящего льда совершенно естественно. Тем более что это стихотворение открывает раздел с многозначным названием «New Age» – новая эра то бишь. И как человек, принадлежащий этой эре, Елена совершенно спокойно включает в свои стихи и подобные англицизмы, и обиходный жаргон, и разговорные аббревиатуры, и сленг того же Интернета. При том, однако, обходясь без мата, присутствие которого считают непременным признаком своей современности иные, особенно провинциальные авторы. Впрочем, вся эта «ньюэйджевость» вполне сочетается с опорой на традицию, причем практически манифестируемой: Когда-нибудь дадут мне Нобеля, и комитет стокгольмский иль женевский задаст вопрос: а кто учителя? Отвечу гордо: Пушкин, Достоевский. Сластолюбивый карла с бородой И Нелли, возлюбившая Азора, И Мышкин, эпилептик молодой. Когда б вы знали, из какого сора… Последняя строчка, благодаря контексту почти постмодернистски переозвучивающая известную цитату, предстаёт не только упоминанием Ахматовой в ряду предтеч, но и сигналом, что предусмотрительно посылается тем же современникам – мол, спокойно, ребята, я своя. Типа так, на всякий случай, чтобы и по своей епархии по-прежнему числили. Тем более что поэт отнюдь не стесняется и сочетания в своем культурном базисе впитанной в Литинституте классики с мексиканским телевизионным «мылом» и Толкиеном. Это – из неизбывного наследного челябинского «городского наива», где «дворик тенистый, берёза да ива/ голуби просят печенья и хлеба/ кошка учёная ходит налево…/ в форточку дым папиросок отцовских/ запах котлет и тушёной капусты…». Именно здесь стояла детская школа искусств, высокопарное звание которой поэт опровергает одной мимолётной ремаркой – «как будто их там было много» – и тут же добивает столь же ироничным именованием образцового гипсового Аполлона: «какой безупречный покойник». Но это вдогонку. Перед возвратившимся из долгого путешествия Одиссеем – лишь остатки корчуемого сквера: «…В гипсовой крошке земля. Начинается новая эра…» В этой эре у неё новый дом и новая школа – Москва. Дом, правда, съёмный, временный. И слезам столица, конечно, по-прежнему не верит: Благословенны московиты, нас приютившие на час и всех кто плыл здесь кроме нас: бесчувственны, но мозговиты. Монетки потные считать и к ночи вымыть руки мылом, и только лишь во сне мечтать о вечном в городе унылом… А потому и школа, похоже, искусств не только возвышенных, но и боевых: «Здесь меня убивали, но леший пронёс./ Здесь за хлеб приходилось мне драться…». И исход поединка оптимизма не вызывает: «Велико наше царство, и мне выбирать,/ под которым забором к утру околею…». Из такой столицы ярче видится мелководное южноуральское озеро Чебакуль и юная пара влюблённых, пережидающая на берегу, пока мимоезжий мотоциклист вытолкает из соседней дюны свой забуксовавший транспорт: «…а мы лежали тихо-тихо,/ и обгорали безнадёжно –/ твоя спина, моё лицо… /а ночью, пьяные, купались,/ ложась на воду, чуя землю:/ нам было море по колено,/ нам было восемнадцать лет…». А Челябинск по возвращении снова оказывается городом, который «тщится в высший свет,/ не отделясь от тьмы,/ и гонит глянец на патрет,/ но – скифы, скифы мы…». И поэт убеждает себя отыскать «…слова/ именовать сии места,/ пускай вчерне пока,/ ведь хоть и нет на них креста,/ а ноша нелегка…». Но снова садится в поезд, и вскоре: Многолюдный перрон, турникет и вокзал – словно бы каждый раз возвращенье к азам… Милый город, промокший от слез дождевых! Я с тобой – поневоле – живее живых… Принимай! Я скучала. Чертовски. Такое вот состояние, свойственное не только провинциалу, который отучился в столице и сумел остаться в ней, и не только стихотворцу, который по роду своей души периодически зависает между небом и землёй, но и опять же многим из современников, неволею сердца или кармана ведущим ныне полукочевую жизнь. Родные стены сковывают только тех, кто не способен из них вырваться. Тому же, кто стремится к движению и новым пространствам, эти стены помогают даже тогда, когда возвратиться к ним уже вряд ли возможно. Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, член Союза писателей России. Новожилова Е. Школа искусств. М.: Водолей Publishers, 2007. 27,01.2008 |