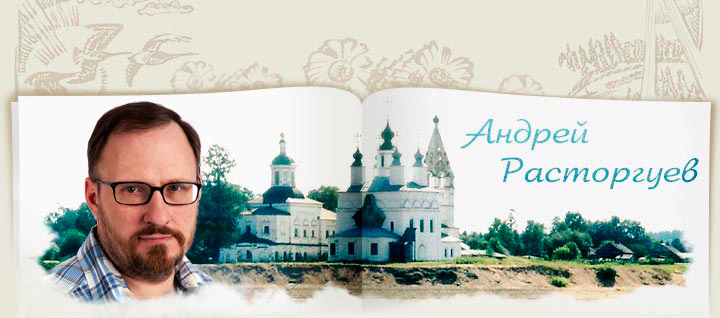
Война и мир Арсена Титова  ОЙНА И МИР АРСЕНА ТИТОВА ОЙНА И МИР АРСЕНА ТИТОВАГерой романа, отмеченного премией «Ясная Поляна» за 2014 год, по-русски выбирает между Родиной и счастьем Колонка Майи Кучерской в газете «Ведомости» за 22 октября 2014 года о том, кому на сей раз присуждена литературная премия «Ясная поляна», доставила истинное удовольствие. Настолько разнообразными эпитетами автор наградила произведения, по её мнению, изначальных лидеров: «умно придуманный и отлично исполненный роман Евгения Чижова», «убедительная реалистическая глыба Сергея Шаргунова», «сборник доброкачественной прозы Дмитрия Новикова». И настолько искусно проявила своё недоумение: мол, чем объяснить, что на таком крепком фоне лауреатом в «самой актуальной» номинации – «XXI век» – стал «неведомый миру» 66-летний уральский автор Арсен Титов с романом о Первой мировой войне «Тень Бехистунга»? Разве что очаровательной непредсказуемостью, которую в очередной раз проявило премиальное жюри во главе с Владимиром Толстым… Такая работа Победителю в той газетной заметке кроме слов о неизвестности и региональной принадлежности досталось лишь поверхностное упоминание о его профессиональных пристрастиях – «историк, живописец, посвятивший себя созданию объёмных исторических полотен в слове». Что позволяет предположить: автор колонки премированное «полотно» не читала и потому собственной оценки заявить не могла. Однако от вполне прозрачного сомнения не удержалась. Что ж, в год столетия Первой мировой солидный роман о ней действительно выглядел ложкой к обеду. И для жюри премии, которая дважды осенена фамилией автора «Войны и мира», это могло стать дополнительным аргументом. Но авторитет экспертов, а тем более знакомство с текстом дают основание утверждать: аргумент если и был, то отнюдь не главным… Что до «неведомости» лауреата миру, то вся она – лишь от сегодняшней множественности литературных миров да ещё информационной ямы, куда угодили многие из русских писателей, которые вступили в литературу в 1990-е и не прилагали специальных усилий, чтобы пробиться в столичные журналы и издательства. В Москве Титов дебютировал лишь в том же 2014 году, когда «Вече» издало вторую часть «Тени Бехистунга» под многосмысленным заглавием «Ночь Персии». А до этого все его книги выходили в Екатеринбурге (первая – ещё в Свердловске, в 1989 году), журнальные публикации, если не считать по одной в «Дружбе народов» и «Нашем современнике» – в «Урале». Публиковался во многих других печатных изданиях России и зарубежья, но – не в столице. Взять между тем одни только «Старогрузинские новеллы», часть коих под именем кавказских можно обнаружить на титовской страничке в «Журнальном зале». По меньшей мере, пряностью и плотностью своего письма они, как и некоторые особенности его жизни, представляют собой вполне уникальное явление. А вот с историей да, он всю жизнь если не на короткой ноге, то в отношениях уважительных. И если не экскурс в прошлое, то пласт или подтекст соответствующий в титовских текстах встречается нередко. Однако «чисто» историческое объёмное полотно в творческой биографии Титова пока сложилось только одно. Поскольку и «Одинокое моё счастье», впервые напечатанное в журнале в 2002 году, и «Под сенью Дария Ахеменида», увидевшее свет в 2012-м, и, наконец, «Екатеринбург, восемнадцатый», опубликованный в 2014-м – всё это части единой трилогии. Под одной обложкой, на которой проставлено новое название второй книги и общее для всей триады – «Тень Бехистунга», она вышла в издательстве Ассоциации писателей Урала, опять же в Екатеринбурге. К более привычному наименованию персидской скалы, которое воспроизводит Википедия, на этой обложке прибавлена ещё одна, последняя буква. Но читатель, помнящий давние школьные уроки или забравшийся в интернет, поймёт, что речь в романе идет о местах отнюдь не тривиальных и прямо-таки дышащих древностью. Ведь барельеф, повествующий о победе персидского царя Дария над мятежными противниками, был выбит на этой скале за пятьсот лет до нашей эры. А русский экспедиционный корпус 1 декабря 1915 года вошёл в бывшую столицу державы Ахеменидов, за два с половиной тысячелетия поменявшую имя Экбатаны на Хамадан, «прямо с противоположной стороны, нежели… Александр Македонский…» Сулящий эпические размеры батальной диорамы энергичный разбег второй книги на этом, однако, притормаживается. Ибо Титов относится к тому роду художников, которые представляют войну тем, что она есть – тяжёлым, зачастую сверх меры человеческих сил трудом. Вот, например, картина лихого по отчаянности русского рейда на помощь осаждённым союзникам-британцам – точнее, отступления после того, как те, отнюдь не изнурённые осадой, сдались турецким войскам: «…Едва не половина батарейцев в тифу, малярии и кишечных инфекциях в беспамятстве металась по лазаретам. Другая половина, за исключением самых немногих, зелёная и впалоглазая от тех же тифа, малярии и кишечных инфекций, истаивала в изнуряющем и гнилом зное, но ещё держалась за орудия. Воды не было, хлеба не было, фуража не было, боезапаса не было… …Было ощущение, что мы – в раскалённой бане. Неодолимо тянуло нашарить скобу на двери, выпасть в предбанник, ткнуться в лохань с водой. Лица и руки наши обгорели до язв и стали покрываться тёмными пятнами, меняя нас, так что порой мы путались, кто из нас кто. Все мы от верха папах и до каблуков были во въевшейся пыли, каким-то образом на нас каменеющей… И странно было, что мы ещё исходили потом, липким густым и воньким потом…» В таких условиях, несмотря на нехватку всего, на бестолочь в тылу и штабах, русские фронтовики выполняют приказ и долг. И дважды доходят почти до Багдада, каждый раз минуя на своём пути тот самый Бехистунг, который казаки по созвучию перекрещивают в бесов тын, считая фигуру Дария изображением сатаны, а всех иных персонажей чертями. Но если вначале огромный барельеф просто притягивает взгляд, то потом, уже в начале семнадцатого, становится поперёк дороги и превращается в символ революционного мятежа, вести о котором доносятся из Петрограда. И даже обстреливает – пулями из курдских винтовок. Несмотря на обоснования, которыми автор тонко подпирает и эту историческую деталь, должность инспектора артиллерии в корпусе, отнюдь не богатом орудиями, выглядит чрезмерной роскошью. Но как бы то ни было, а в романе она позволяет главному герою, капитану Борису Норину видеть все уровни происходящего, поднимаясь от боёв к штабам, и весьма немалой высоты. Вместе с ним и читатель обретает возможность судить о перипетиях и подоплёках как отдельных боевых операций, так и стратегических действий и последствий, включая саму персидскую экспедицию в целом. Но – именно в той необходимой мере, которая позволяет думающему человеку удовлетворять и сохранять интерес к художественному тексту. И вообще: не в Первой мировой дело. Или не только в ней… Борьба за живучесть Сам автор в предисловии выделяет прежде всего историческую основу романа, напоминая, что даже для просвещённого читателя вся та война остается практически неизвестной, а события, происходившие на Кавказском фронте и в Персии – и подавно. Хотя «именно здесь русская армия совершенно ничтожными против остальных фронтов силами добилась наибольших успехов» и именно здесь воевали более и менее известные нам, а то и вовсе забытые участники событий – в том числе более поздних. Генерал Юденич, к примеру, сегодня более знаком по лозунгу 1919 года «Все на борьбу с Юденичем!», унтер-офицер Будённый – как командарм Первой Конной и усатый советский маршал, а войсковой старшина Шкуро – как пособник гитлеровцев, казнённый после войны в Москве. Однако и эти, и многие иные, ныне совсем забытые люди предстают на страницах романа как сыновья своей родины, подтверждающие верность ей в боях с врагами внешними и внутренними. Во всяком случае, в то время. Между тем сугубо военной, да и то с оговорками можно назвать лишь вторую книгу трилогии, охватившую два с лишним года. В первой же книге, действие которой начинается в четырнадцатом году, бои длятся всего лишь семь дней – и то пять из них предстают не воочию, а в кратких воспоминаниях главного и репликах других персонажей. Тогда герой сумел с блеском проявить все навыки, полученные в Михайловской артиллерийской академии, куда поступил сразу после отличного окончания пехотного училища и после выпуска из которой «к двадцати шести своим годам имел чин штабс-капитана и назначение командиром батареи, что обычно достигается лишь годам к сорока». Главным из этих навыков оказалось умение быстро решать математические задачи. Благодаря ему батарея Норина с открытой позиции накрывала противника уже вторым или третьим залпом, тем самым обеспечивая как собственное выживание, так и экономный расход вечно недостающих снарядов и ресурса пушечных стволов. Как результат – представление к высшей военной награде Российской Империи за личную доблесть, ордену Святого Георгия. Впереди – следующий чин, новый шаг блестящей карьеры. Пока же получите новый приказ: расстрелять одну из восставших в тылу аджарских деревень. А Норин выполнять его отказывается, ни минуты не задумавшись о неотвратимых последствиях… С этого перелома, собственно, и начинается весь роман. Делу, правда, хода не дают, а героя фактически прячут, отправляя в горы начальником штаба безвестной казачьей полусотни, несущей там пограничную службу. Оказалось: из огня да в ледяное полымя. Ибо именно в эту полусотню упирается, совершая – предсказанный, да генералы пренебрегли! – обходной маневр по ущельям, целая турецкая бригада. Гибельный холод уравнивает силы – и окопавшиеся казаки, и вышедшие на них турки насмерть замерзают в снегу. А на совести едва выжившего Норина камнем повисает вопрос: не напрасно ли он положил оказавшихся под его командой людей, оставив без мужчин едва ли не всю деревню Бутаковку, из которой полусотня вышла? Какую роль сыграла та задержка в конечной неудаче турецкого натиска, из ущелий не видно. Тем более что русское контрнаступление героя миновало: тою порой он возвращался к жизни в Горийском госпитале, куда поступил в числе безнадёжных… Так что приверженцев исключительно батальных сцен, рисуемых с птичьего полёта, «Тень Бехистунга» вряд ли удовлетворит – львиную долю текста наполняют другие стороны человеческого бытия. И поскольку герой – мужчина, то его отношения с женщинами, разумеется, тоже. Но сугубые любители сцен постельных, несмотря на присутствие таковых, тоже могут не беспокоиться. Прописаны эти эпизоды вполне откровенно и чувственно – однако с той сдержанностью, которая по-прежнему отличает настоящего художника, да ещё с поправкой на особенности описываемого времени, чреватого прежде всего социальной, а потом уже сексуальной революцией. Словом, душевная сторона этих отношений заботит Норина куда более физической. Среди своих влечений он пытается найти настоящее чувство и, обретая его, преодолевает опустошение, вселяемое той же войной. Поначалу, правда, он рад и тому, и другому. Счастлив, сбивая с позиций турецкие батареи и сохраняя живыми всех своих солдат. Счастлив, в порыве страсти уединяясь с молодой замужней женщиной на тихой даче… А в госпитале, после гибели бутаковской полусотни, ощущает себя девяностолетним старцем, живущим в тысяча девятьсот семидесятом году, отстранённым и не испытывающим уже никаких желаний. И даже, признаваясь одной из сестёр милосердия в любви, внутри остаётся холоден. Хотя внешне: «…когда вошёл в помещение коменданта гарнизона и увидел себя в зеркало, то едва не шарахнулся от неожиданности… там был молодой разрумянившийся от ветра и счастья юноша, которому вопиюще не соответствовали капитанские погоны и белый крестик ордена…» В большом пограничном ауле, комендантом которого оказывается затем Норин, объектом его устремлённой в будущее, платонической – упаси Господи, ничего плотского, современно-скандального – любви становится шестилетняя дочь местного старшины Ражита: «Мне показалось, Иззет-ага посмотрел на меня с испытанием. Я без колебаний ответил ему прямым взглядом. Перед ним и перед Богом я обязывался через десять лет приехать за Ражитой… Я знал – это будет. Я был выплывшим на поверхность… Я был в двадцатишестилетнем возрасте. Я был новым…» Другие поступки главного героя, свидетельствующие его верность данному слову, убеждают: так бы и случилось. Но в аул приходят… Террористы, повстанцы, душманы, моджахеды, бандиты – сегодня имён не счесть, смотря кто нарекает, а тогда они звались четниками. И старшина Иззет-ага, предупредивший русских о нападении, гибнет со всею семьёй, а не отступивший Норин оказывается в плену и на распятии. И, вновь по счастливому случаю оставшись в живых, вспоминает всех приблизившихся к нему в последние месяцы людей, предполагая, что именно встреча с ним положила конец их жизням. Теперь он без обиняков ощущает себя мерином, «тянущим служебную лямку и более ничего не замечающим», хотя опять же, скорее, внутренне, поскольку естество всё-таки берёт своё. Но любовь к шотландке Элизабет, Элспет, встреченной при соединении с союзниками, снова идёт из сердца и остаётся в нём до самого конца, во всяком случае – до завершения романа. Чувство остаётся, а любимая женщина отдаляется – и, тоже, скорее всего, невозвратимо, ибо в те же самые дни отрекается от престола Государь … Жизнь за царя? Монархические воззрения Норина – из детства, когда он «готовился служить государю-императору беспорочно, не за страх, а за совесть». И в 1905 году провозглашённый 17 октября царский манифест о свободах юный Борис видит мудрой уступкой «кучке развращённых властолюбцев», вместе со всей гимназией выходя на демонстрацию народного ликования «только потому, что не мог предать товарищей и этим предательством навредить государю», считал товарищество частью служения. Поэтому и отречение Николая II для героя – предательство и личное оскорбление: «Чёрт вас возьми! Что за причина! Ведь триста лет! Ведь правили триста лет – и в один миг! Мы здесь, мы грязные, как вши, солдатики, мы серая скотинка, без жалоб, без просьб, без отпусков служим, кладём свои жизни! А ты там! – и что «там», я не знал, но отчего-то был уверен в абсолютной невозможности отречения от престола, даже если «там» было престол удержать невозможно…» И вынужденную присягу «сволочи временному правительству» Норин принимает лишь как новую клятву на верность империи и государю. Вынужденную потому, что не мыслит себя вне военной службы. Но дальше прежнюю армию ожидает только распад. Очередным подрывом устоев и поводом к новому моральному надлому становится отмена погон и былых правил субординации. А после Октябрьского переворота, когда войсками начинают командовать солдатские комитеты, героя всё-таки отправляют из армии вон. С точки зрения хоть разумного эгоизма, хоть внушаемого сегодня рационалистического девиза «be positive» – плакать не о чем. Мир, конечно, переворотился, но у тебя в кармане – пришедшее через Лондон и Петроград письмо от любимой, которая сообщает о своей беременности и о готовности жить с тобой в России. Потом, когда на твоей родине снова наступит порядок, а пока можно послужить в армии британской или вовсе отправиться на шотландские берега. И сопереживающий подобно кинозрителю читатель, как минимум в общих чертах зная, чем продолжилось тогда дело, едва не в голос подсказывает: езжай, Норин, в ближайшие 40-50 лет подполковнику царской армии с твоими убеждениями на родной земле не выжить… Но что за безумец русский человек! Не на юг, не к Персидскому заливу или Индийскому океану он отправляется, откуда можно в Британию уплыть и прожить там долго и счастливо, а на север – к Каспийскому морю, в порт Энзели. Да не один, а во главе команды, выводящей из Персии сводную шестиорудийную батарею. По не приказу даже, а просьбе командира корпуса – и вопреки запрету новой революционной власти, который оборачивается погоней и убийственными дорожными муками. Чуть ранее перед ним уже мелькала возможность благодаря выгодной женитьбе перебраться в Петроград, а то и безбедно устроиться за границей. Но любви там не было, а без неё – и оснований сколько-нибудь серьёзно размышлять об этой перспективе. Теперь же Норин поступается и любовью… Сообщая Элспет в ответном письме, что приедет «к тебе и к нашему дитю…, как только восстановим в России порядок», он ясно ощущает фальшь: «Надо было написать просто и сердечно, надо было все объяснить. У меня не вышло…» Возможно, потому, что никакого пафоса о долге, чести и Родине не было и в мыслях. Хотя именно в них он увидел единственный смысл жизни чуть раньше, ощутив, с какой странной обыденностью время относит живых от мёртвых, которые вроде бы ещё на днях были рядом. Он и тогда, произнеся эти слова – присяга, долг и вера, не был убеждён, что в них нет лукавства, а теперь и вовсе. Но в неспособности предать доверие товарищей, зовущих его на Терек и на Кубань, и в той же неизбывной готовности к служению, которую он подтверждает новым поступком, проявляются, как ни крути, именно те самые долг, честь и любовь к Родине. Хотя изречённое о них слово зачастую и выглядит высокопарной ложью. Была бы за новой властью правда – может, подобно иным офицерам и генералам он и принял бы революцию вместе с предложением продолжить службу на новой высокой должности. Но в пришедших к властному кормилу людях он видит лишь трепетное стремление «новыми, ранее неизвестными для их речи словами… отделять себя от своих товарищей, от их невежества…, ставить себя выше их», стать новым избранным сословием, которое упивается властью и неограниченной свободой… Для него эти люди – сволочь по основаниям не классовым, но моральным и, если хотите, эстетическим. Сделав выбор, Норин отказывается и от мысли о возвращении в родной Екатеринбург, ибо выводить батарею предложено на Терек. Но тут вмешиваются уже иные силы, и волею автора, воплощённой в произволе тифозной заразы, бывший подполковник выходит из забытья в поезде, идущем на восток через мятежный Туркестан… Стихия тьмы От писательницы, романы которой удачно продаются в одной из бывших союзных республик, недавно услышал занятную историю. Пожелав повторить успех в России, одно из крупных издательств настоятельно посоветовало ей переделать уже опубликованные тексты, перенеся действие из столицы этой республики в Москву. Делать это писательница, по её словам, категорически отказалась, чем, возможно, и впрямь лишила издательство какой-то доли дохода. Титов же с этой точки зрения и вовсе поступил вопреки рынку. Столица несколько раз мелькает у него разве что отголоском, в диа- и монологах – к примеру, норинского гимназического однокашника Михаила Злоказова, который в свою петербургскую бытность, войдя в круги поэтической богемы, свёл знакомство со всеми известными персонажами «серебряного века» и отзывается о них весьма нелицеприятно. Тень Бехистунга же всё время падает на имперскую периферию: Урал, Башкирию, где на берегах реки Белой проводил лето юный Норин, Аджарию, Туркестан, Оренбург… Да и Персия для читателя, привыкшего считать пупом земли Европу, так себе – третий мир… Впрочем, как ни пытается теперь Екатеринбург сделать упор на иные свои приметы – пограничье той же Европы и Азии, заслуги в горном деле и металлургии, в том числе открытие первого русского золота и чеканка медной монеты на всю страну, а кого ни спроси, чем славен, через одного ответят: там царя убили… Так что для событий 1918 года и сегодняшней памяти нынешняя уральская столица имела вполне выдающееся значение – хотя действие третьей книги романа разворачивается в январе-апреле, когда Николай II и его семья ещё не прибыли из Тобольска. И смотрится «совершенно мутный от отсутствия огней», заснеженный и загаженный из-за нехватки золотарей – тут, понятно, речь не о металле – город и вправду, мягко говоря, провинциально. Не факт, однако, что и Питер с Москвой выглядели тогда совсем по-другому. А самое главное: вряд ли события разворачивались там иначе. Во всяком случае, для обычных людей. Белогвардейцев в январе восемнадцатого вроде ещё не было – хотя первые бои с войсками оренбургского атамана Дутова уже прошли, гражданская вовсю пока не разгорелась. Но у классово чутких красногвардейцев, возглавляемых присланным из Петрограда матросом Павлом Хохряковым, чьё имя до сих пор носит одна из местных улиц, сомнений нет: никакой Норин не прапорщик, вышедший в офицеры во время войны, а «ваше белокостие», и дорога ему прямиком на Елисейские поля. Не парижские, разумеется, а небесные. Коса на камень находит у героя и с будущим руководителем расстрела царской семьи Яковом Юровским. Так что до поры до времени выручает Норина лишь знакомство и общение с солдатом Григорием Бурковым, который сопутствовал ему в поезде до Екатеринбурга, а потом тоже оказался одним из вождей местной Красной гвардии. Во многих советских книгах о революции и гражданской войне думающий о судьбах Родины царский офицер неизбежно приходит к пониманию правоты народа, который добивается лучшей доли. И в правоте этой убеждают как многие персонажи, из народа вышедшие, так и злодеи, народ гнобящие и презирающие. Во времена постсоветские злодеями стали красные комиссары и чекисты, а потомственные и служилые дворяне едва ли не поголовно отбелились и облагородились. Явно порывая с первой традицией, Титов вроде бы продолжает вторую: большевик Бурков – пожалуй, единственный из персонажей романа, кто участвует в становлении и защите новой власти и при этом выглядит разумным человеком. Или, во всяком случае, имеющим свою логику, которой «можно было увлечься». Впечатление Норина, что страну охватила всеобщая душевная болезнь, бывший земский учитель именует «визгом трясущейся от страха буржуазии». По его мнению, «эксплуататорский класс» сам начал не только войну, но и революцию, затеяв «игрища с властью». И для того, чтобы его прикончить, такие, как Хохряков и Юровский, необходимы. Самому Буркову, по его словам, ни революция, ни власть не нужна, он хотел бы и дальше учительствовать, но – «вихрь захватил». Он убеждён, что Россия в этом вихре уцелеет, а в Норине видит то светлое и высокое, что было в прошедших тюрьмы наставниках, которые учили будущего большевика марксизму. Но считает, что с народом надо быть не только на фронте: «…Надо бороться за него. Надо просвещать его… Он в революцию – и ты в революцию!» Впрочем, поскольку революции Норин не понимает, лезть в неё Бурков ему не советует, равно как и предостерегает от присоединения к какой-нибудь из имеющихся в городе тайных офицерских организаций. Будучи совестливым человеком, он болезненно переживает «так называемую линию своей партии» на Брестский мир и даже речью отличается от тех, для кого народ является всего лишь материалом. Но когда в оттаивающих южноуральских степях снова начинаются бои с дутовцами, ожесточается и он, поддерживая артиллерийские расстрелы казачьих станиц: «Это закон гражданской войны!.. Сплошь поднимаются против нас… У нас здесь, вокруг Екатеринбурга, как ни завод, так восстание, как ни деревня, так мятеж. Все на нас волком смотрят…» На этом очередной разговор прерывается, поскольку собеседники чувствуют: за этой гранью – открытая вражда. Хотя Бурков по-прежнему уверен: «…Сохранить бы тебя до хороших времён, и ты бы сам всё увидел. И ты бы стал с народом, служил бы ему…» Фраза, выводящая из памяти образ ещё прежней выучки красного командира, который в хрестоматийном кинофильме «Офицеры» говорит будущему советскому генералу: «Есть такая профессия – Родину защищать…» В романе, однако, словно грустная пародия на него, мелькает старый норинский преподаватель, который приехал в Екатеринбург вместе с Академией Генштаба. Ему и «вполне сносных» пирожных достаточно для вывода, что Екатеринбург – город культурный, а «Бронштейн или по-нынешнему комиссар Троцкий всё-таки ценит академию…» Вспоминал ли это кино сам Титов, когда писал роман – не знаю. Вопрос о том, как доживали такие краскомы без страха и упрёка до хороших времён, он оставляет без прямого ответа. Проблески нормальной жизни случаются даже в такие времена: спасённая Нориным от голода и унижения и ставшая для него новым испытанием Анна организует в союзе молодёжи библиотеки для деревень и фронтовых частей, а некая «товарищ Наумова… всем сердцем полюбила товарища Хохрякова». Однако Норину шанса сохраниться, а уж тем более перейти на сторону революции автор всею логикой своего повествования не даёт. Не единожды герой жалеет, что не ушёл из Оренбурга с выбитым оттуда, но не покорившимся полковником Дутовым. Там же, на юге, за Гиндукушем – всё более призрачная Индия, откуда он мог бы уплыть к Элспет. Время и расстояние, и проявленные ранее норинские свойства не оставляют сомнения: воплотиться этому призраку не суждено. Что же до советской и антисоветской литературных традиций, то автор, сдаётся, помнит про обе и от обеих пытается уйти. Самой убедительной в результате оказывается картина революции как тёмной надличностной стихии, рождённой действиями многих сил и возносящей кверху человеческое отребье. А люди, приверженные жизни и родине, сначала пытаются остаться в стороне от этого вихря, но потом неудержимо вовлекаются в его неумолимые витки. Бремя русского человека Размышления о сути и природе революции – тоже своего рода ложка к обеду, но уже отнюдь не юбилейного свойства. Это в годы стабильной сытости они могут казаться ненужными и оставшимися в недобром прошлом. Кризисные же времена, в очередной раз переживаемые нами, весьма освежают читательскую способность к сравнениям, ассоциациям и параллелям. С неизбежностью в этих размышлениях оживает и национальная составляющая – если она вообще когда-нибудь исчезает из наших даже бытовых разговоров. Обратившись к тем годам и тем местам, Титов среди прочего заново открывает читателю туркестанский мятеж 1916 года – ещё одно из событий, укрытых завесою не столько времени, сколько сознательного молчания о, мягко говоря, непростых отношениях народов, сошедшихся и сведённых вначале в Российскую империю, а потом и в СССР: «Зачинщики мятежа провозгласили священную войну всех мусульман против иноверцев, разумея под иноверцами только русское православное население… дикие насилия и надругательства над матерями, жёнами, сёстрами, детьми и стариками русских мужиков и казаков, ушедших на фронт...» Вспоминая об этом, Норин соглашается: «Есть в окружающих империю народах что-то тёмное, что-то из того ряда, который сотник Томлин определил словами о признании ими только грубой физической силы…» И с явным к тому сочувствием и удовлетворением сообщает, что присланный «военный контингент не стал с мятежниками церемониться, а дал им тою мерой, какой отличились они… Край был замирён…» Но и пресловутого превосходства белого человека в этих словах нет. Как в начале романа поступил сам герой, получив приказ расстрелять восставшее в тылу аджарское селение, мы помним. И как, несмотря на свою едва ли не юность, стремился уважать восточные тонкости в отношениях со старшинами подчинённого ему аула, автор рисует вполне зримо – неслучайно двое из тех старшин выступают против пришедших четников, платя за это жизнью, причём не только собственной. А в Персии, отступая, русские отказываются взрывать за собой древние мосты… О том, какие способности к зверскому уничтожению себе подобных в 1917 году в Ташкенте проявили иные «белые люди», пронесшие к власти ту грязь, из которой поднялись, Титов устами Норина напоминает тоже. И природа земная, даже враждебная, оказывается в его романе, как и следовало ожидать, куда милосерднее человеческой: «…Ночь упала быстро, странная персидская ночь. Вместо огромного и всё более стекающегося к горизонту в гнетущий красный шар солнца выплыла половинная, будто с разболевшейся одной щекой, не менее огромная луна. Она ловко угнездилась среди вспыхнувших и тяжелых разноцветных звёзд. Небо, днём запекшееся в единый палящий и недвижный сгусток, вдруг ожило, зашевелилось, задвигалось, раздалось вширь и, кажется, даже прогнулось к нам. То тут, то там одна за другой или враз по нескольку, звёзды стали обрываться и лететь от одного края неба к другому и обратно, как если бы кто-то стал их перебрасывать из руки в руку. Звёзды будто даже дали тени. Длинные и даже с различным оттенком цвета, они легли по земле поперёк и вдоль, и тоже зашевелились, заперемежались, будто живые, вызывая безотчётную тревогу. Всё кругом чуть поостыло. Практически выморочные, люди и лошади хватали эту остылость, будто хотели нахватать её впрок. Шли молча и плохо, но шли…» Столь продолжительная цитата даёт, на мой взгляд, возможность представить не только живописные особенности авторского письма, но и его темпоритм. Немного вязкая неторопливость как бы обволакивает событийный ряд, размывает чёткие очертания, завешивая их дымкой то ли времени, то ли персидской пыли и уральской метели. В наше суетливое покетбуковое время и это свойство наверняка помешает роману стать безусловным бестселлером. Но как способ умножить ощущение реальности, где узловые события так же размываются будничной текучкой, и придать повествованию своеобразный восточный привкус оно вполне может найти понимание у ценителей художественного мастерства. Столь же тонко Титов эпизодами возвращается к уже описанным событиям, когда становятся известными и в нужный момент включаются в смысловую ткань новые важные подробности. Подобным образом в реальной жизни человек вспоминает моменты прошлого, которые до тех пор дремали в подсознании. Сродни таким оборотам и периодическое обращение к символическим и смысловым стержням романа. Одним из них наряду с мыслями о государстве и Государе или тенью Бехистунга является тот самый отказ Норина расстреливать аджарское селение, с которого всё и начинается. В госпитале от одного из соседей по палате он узнаёт, что приказ всё-таки был выполнен, причём офицер-исполнитель не просто нашёлся, но вызвался сам. А чуть позже в гражданскую артиллерией сметают дома восставших казаков… Правда, в нескольких местах ретроспективы, по ощущению, всё же сбиваются на излишний пересказ. Возможно, это плоды долгой работы над трилогией, когда автору трудно удерживать в памяти всю ткань повествования, а потом, сведя всё куски воедино, посмотреть на неё отстранённым взглядом. Или же это следы понимания, что издатель, жёстко ориентированный на рынок, всё-таки выпустит три части отдельными книжками, а в этом случае читателю волей-неволей приходится напоминать, о чём шла речь в «предыдущей серии». Открытый финал третьей книги, когда накануне прибытия поезда с царской семьёй Норин и его вечный спутник есаул Томлин, с которым, как и с целым рядом других персонажей, связана отдельная история, отправляются в собственный военный поход на Екатеринбург, вполне позволяет задуматься о возможном продолжении. Однако сюжет с фантастической попыткой спасти Романовых уже отыгран в кино, да и чтобы свести «Тень Бехистунга» на авантюрный боевик, надо сильно постараться. Уже упоминавшийся массив предшествующей литературы о гражданской войне и переживаниях русской интеллигенции тоже требует новых мыслей, сюжетов и красок. Правда, снова встретившись в Екатеринбурге со своим гимназическим учителем истории, Норин ощущает «огромную и едва ли преодолимую дистанцию, нежилое пространство между русским интеллигентом и служащим офицером», тем самым как бы подсказывая ещё один сословный пласт. И новое время, возвратившее нас ко многим ранее спрятанным фактам, а кроме того – само по себе чреватое различными гражданскими противостояниями, по меньшей мере, намекает на возможность открыть и использовать эти самые новые мысли, сюжеты и краски. Одно только противостояние красных и оренбургского казачества во главе с тем же Дутовым чего стоит – дерзкие, но пока не совсем удачные попытки описать его уже есть. История борьбы Колчака и с Колчаком тоже достойна куда большего, нежели отдельные эпизоды известного фильма с Хабенским. Завязав к финалу третьей книги многие сюжетные нити на узелок, но оставив другие в подвешенном состоянии, сам Титов как будто остановился в размышлении. Вопрос о возможной четвёртой книге, однако, представляется техническим, а потому малозначащим. Уже сейчас трилогия достойно продолжает собой традицию классической прозы, составляемую целым рядом литературных произведений, о которых напоминает многими ассоциативными связями. В числе предшественников тут просматриваются не только сразу два Толстых – Лев и Алексей, но и, к примеру, Сервантес, хотя от прямых уподоблений, безусловно, стоит воздержаться. Да не покажется последнее заявление чрезмерным – не уравниваю, но вспоминаю и сопоставляю. «Тень Бехистунга» – полнокровный многофигурный и многослойный роман об одном из переломных периодов нашей истории, главный герой которого, как это принято считать свойственным русским людям, трагически выбирает своим приоритетом отнюдь не личное счастье. В последнее время, девизом которого стало стремление к собственному благополучию, этот выбор не раз осмеян. Но многие снова и снова делают его и в реальности. При этом, воздерживаясь от погружения в эпическую историософию, Титов делает повествование внутренним монологом героя, звучащим здесь и сейчас – нет ни единого намёка на то, что ему удалось написать мемуары или дожить до внимающих ему внуков. Тем самым автор избегает опасности впасть в ненужный пафос и сохраняет заслуживающую доверие лирическую исповедальность. Андрей Расторгуев Титов А.Б. Тень Бехистунга: Исторические романы. – Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2013. – 800 с. 24,12.2014 |
