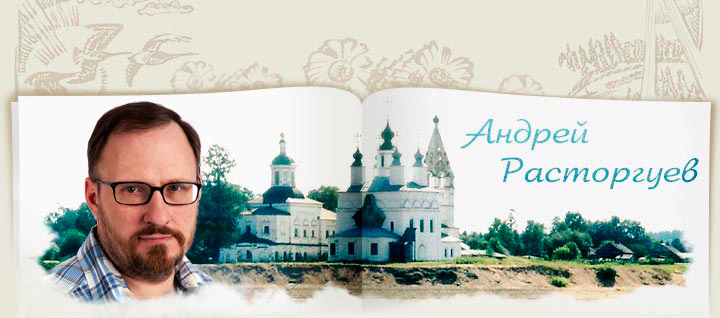
«…у неба – привкус абрикоса…» «…у неба – привкус абрикоса…»Поэт и художник из Севастополя Тихон Синицын вновь приближает к нам едва не оторвавшийся Крым Заезжая на северные берега Чёрного моря исключительно отпускным летом, всегда терялся в догадках: ну как можно писать стихи в таком пекле? Известные с советского детства крымские места чужими не казались: украинские гривны просто добавляли немного экзотики, а отнимающая уйму времени и терпимую сумму рублей на взятку таможенникам – мол, тогда в ускоренном порядке – граница представлялась досадным недоразумением. Так что живых, а не умозрительных вопросов добавили только известные послемайданные события 2014 года. И всё же на Третьем международном совещании молодых писателей, которое провела в конце нынешнего мая в Каменске-Уральском Ассоциация писателей Урала, повода и возможности задать эти вопросы 30-летнему севастопольцу Тихону Синицыну, рекомендованному здесь в Союз писателей России, не нашлось. Поэтому волей-неволей начал искать ответы в сборнике его стихов «Рисунки на берегу», который увидел свет крымского солнца накануне поездки своего автора на Урал. Если судить по этой книжке, синицынская муза тоже не очень хорошо переносит жару и наплыв отпускников. Во всяком случае, картины других сезонов встречаются у него гораздо чаще. Исключением разве что портрет разморённой природы, где «Лёгкие облака/ Заволокли каркас/ крымского/ сосняка….» («Короткометражные сны»), или вечера, когда дневное палево миновало – например, в горах, где «Наплывы бескрайнего неба/ на бортиках чаши/ оливковых гор./ Под ногами лиловый мазут…», и то ли «…птица Симург вылетает бесшумно из чащи…», то ли «облака из ущелья ползут…» («Симург»). Сутулый татарин, похожий на «крымского Руми или пьяного Хайяма», ковыряется «веточкой в жаркой золе» майским вечером, когда «алыча расцвела расписной тюбетейкой», а поэт предвкушает приход неизречённой бесконечности («Время цветения алычи»). Вечер же сентябрьский выбрит до синевы, в солнечном свете – привкус винограда, а в невыносимо чистом безветренном воздухе слышится лишь мимолётный треск проехавшего мотоцикла («September & silentium»). Декабрь мелькает, как ястреб-перепелятник и одновременно как «огни вечерних маршруток на чёрной трассе» («Впечатление от восхода зимы»). В феврале, в предвкушении лета видя «В сизом небе Федерико Лорки/ баснословно жаркие лучи…,/ Хочется, читая Пастернака,/ о весне по-новому сказать…» («Февральские окна»). В этих пейзажах вполне явственно проглядывается не только художник, но и человек, оглядевший Крым отнюдь не только с ялтинской набережной. Впрочем, когда «В зимней Ялте комендантский час:/ набережной правит невесомость…», стихи уточняют и образ живописца, который, оказывается, работает не только маслом и акварелью: «Растровая графика дворов,/ наливное пальмовое небо…» («Нерифмованный вечер»). А короткая справка об авторе подтверждает: «Окончил Крымский Гуманитарный университет в Ялте. Работал горным инструктором, художником и преподавателем истории искусств… Много путешествовал по стране…» Вариантов, как толковать это самое «по стране», явно не больше одного. И дело даже не в том, что после 2014 года иное требовало бы дополнительных объяснений. И не в том, что севастополец, по его словам, всегда считал полуостров частью России, да и другие крымчане, говоря «поехать на Украину», всегда имели в виду отправиться на север от Перекопа и Джанкоя. «…Чувства мои,/ словно космополиты», утверждает автор. Но в поход они отправляются туда, где «…острова/ можно достать руками,/ запоминать/ кроны и купола…/ После прибоя –/ облако голубое,/ жгучей крапивы/ рыхлый,/ холодный/ лист…» («Дорожные стансы»). Крапива, конечно, за отечественными пределами тоже произрастает, но по чувствам тем же – это растение нашенское не меньше берёзы. И Северную Пальмиру Синицын ощущает как человек русский: «Манекены пялятся из витрин./ Над мостами облако из металла./ Снова лучший невский ультрамарин/ По холодной паперти разметало…» («Васильевский остров»). А Москву – тем более, и подкрепляется это, судя по всему, не только внешними впечатлениями: «В московские дворы тревожный липкий снег/ приносит ветер смерти из пустыни./ Но светлый херувим, почти как человек,/ глядит задумчиво на русские святыни…» («Памяти иерея Даниила Сысоева»). Душу свою, что была «горлицей на проводке», а нынче стала «стремительней кошки», альтер эго автора призывает вернуться не в птичье, но в человеческое состояние: «…И выдохнуть светлое слово «прости»,/ Где были курлыканья и воркованья…» («В прощёное воскресенье»). А с отцом связывает не только родовая, но и та же культурно-поэтическая память: «…и золотую/ вещую/ пылинку/ случайно обнаружить над столом…» («Отцу») Однако память эта отнюдь не ностальгически-эмигрантского свойства. Крым для лирического героя Синицына – часть не только этой большой русской культуры и земли, но и своя земля, родина, которую отнюдь не всегда назовёшь малой. Причём без всякого пафоса, по вполне личностным в том числе обстоятельствам: В нашем городе пьют допоздна мохито, переходят улицы босиком, продают катрана. Боясь бронхита, лечат горло маслом и коньяком… …Мы под этим небом живём однажды. Мы не хуже малых господних птиц. Сочтены и волосы, и глаголы, жаркий летний воздух и каждый вдох, и фонарик тот, что летит над молом, и вопрос, что может застать врасплох… Возвращаясь в этот Новый Зурбаган, герой и ту самую Пальмиру, которой наполнился так, что «под свитером пульсирует Нева», покидает без лишнего сожаления: «…Мне так легко,/ Ведь есть на свете поезд,/ Который довезёт до Фиолента,/ Где можно объективно подытожить:/ «Как хорошо,/ Что есть на свете/ Ты»… («Перед отъездом»). Нынче, правда – надеюсь, пока – напрямую поездом до севастопольского мыса Фиолент не доберёшься. И в музыке того же Питера, где лето – как раз лучшее время года, пробивается тревожная нота: «Медное небо с привкусом керосина,/ Где облака мягкие, словно глина./ Львы этих улиц, сфинксы и серафимы/ Снятся легальным беженцам с Украины…» («Летний Петербург»). И неясное беспокойство на фоне белого, как рафинад, южного дворика и написанных по-сырому облаков, когда «мы с тобою, как пластуны,/ Беспокойно маемся у границы…» («Литораль»), сменяется картиной распадающегося мира, где «….каждый хватает кусок,/ Неизвестные снайперы/ Целятся прямо в висок…/ И такое за дверью, –/ Что подсматривать/ Страшно в глазок./ Разве/ Только/ Разок…» («Los caprichos»). «Когда дорога серая от клейстера/ размокших листьев, брошенных в грязи…», героя охватывает новая грёза: «…Ты – современник этой новой осени,/ тебе ещё доступна благодать./ Легко дыши, мечтай о Новороссии./ - Смотри, до облаков рукой подать!» («Евразийский ноябрь»). Однако ни злобы, ни злорадства по отношению к Украине он не испытывает. Строка «Вечера на хуторе близ Майдана…», разумеется, открыто иронична. Но то, что «…похож на рваную вытынанку/ Древний Киев – центр Святой Руси…» («Киевская грусть»), не смешит ни автора, ни читателя. Даже отзываясь на трагедию в Одессе и в публицистическом порыве слегка искажая имя другого, древнеримского города, поэт завершает своё обращение к (бывшему ли?) согражданину не восклицательным, а вопросительным знаком: …Я знаю, ты тоже из этой страны, Ты тоже спешил торопливо в Европу. Какие теперь тебя мучают сны? В какие ты веришь теперь гороскопы? Ты тоже жуешь вечерами полынь, Когда над кварталами небо темнеет, И в руки Господни восходит Хатынь Из выбитых стёкол Приморской Помпеи? («Одесская Хатынь») Самые искренние мечты подчас просты до прямолинейности: «....очнуться на песчаном пляже,/ не ссорившись, с тобой,/ не пойманным войной,/ не мучась от духовной жажды…/ Пусть в доме сумасшедшем/ выходной/ наступит, наконец, однажды…» («Смутное время»). Иронический портрет румяного депутата, у которого в мобильнике звучит гимн Севастополя, сочетается с сугубо личным воспоминанием: «Все твои/ «фенечки»/ и все браслеты,/ все недомолвки/ и все оговорки…/ это лучше, что у меня было…» («Надломленный август»). И в том же августе не отпускающие мысли о событиях в Донбассе перекрываются желанием общения с близким человеком, хотя бы в онлайновом чате («Outgoing message»): …Хочу открывать твои письма, вдыхая лишь почерк, про горы в Норвегии, сны в скандинавской пещере, про то, как идут от безверья к осознанной вере, про то, как над городом ангел дежурит в пижаме, про пляж, где каштаны рифмуют с морскими ежами… И снова разговор на расстоянии: «…Электронных писем несметный клин/ исчезает в сумерках где-то в Сочи./ Присмотрись: раскачивается трамплин/ предосенней ночи…» («31.08») Поглощённость друг другом доходит до возможности «…длинного августа ветреный бред/ …записать в музыкальном формате…» («Жнивень») То ли отвлекшись от новостей из Киева, то ли окончательно ощутив себя в безопасности, герой как главное слышит, чувствует и запоминает: «…Кузнечик/ выдавал коленцами/ Такой невыносимый джаз,/ Что чувство чистой/ Экзистенции/ Порою посещало нас…» («Постмайдановское»). Сила расслабления, как правило, немногим уступает силе былого напряжения. И тогда можно поразмышлять о бытии: «О чем размышляет Сизиф, когда камень летит с горы?/ Что снится тебе под утро, какие скользят тревоги?/ Какие ещё ожидаешь от горизонта дары,/ когда облака словно единороги?../ …Что роднит с рыбаком, который латает невод под гул прибоя?..» («Сизиф»). «…Подхожу из ущелья поближе к костру./ Мои замыслы словно колонны пылинок…/ Неужели однажды всё это сотру/ И сойду в разогретый на солнце суглинок?..» («Из Григора Нарекаци»). Но главные философские открытия у Тихона Синицына, очевидно, еще впереди – как и, возможно, поиски более изощрённой – или просто соответствующей углубляющимся мыслям – стихотворной формы. В стихах же этого периода самыми запоминающимися, наверное, останутся те самые картины, по естественным причинам недоступные для тех, кто бывает в Крыму наездами. Впрочем, что солнце здесь жалит сильнее пчелы («Краснокаменка»), ощущал, наверное, каждый из летних постояльцев. И крымское небо пробовал: «…В моей разноголосой Таврике/ у неба привкус абрикоса./ Здесь притворяются кентаврами/ лиловые сухие осы…» («Ялта»). А вот «О Господи, как чисто и легко/ в сентябрьской земле обетованной!» («Последнее время года») могли вымолвить, наверное, уже не все. Тем более – увидеть дикие крокусы, которые вновь расцветают на пустыре за школой, куда со всё ещё людной осенней набережной не докатываются потоки ни волн, ни приезжих, и которые скрашивают неизбежность прихода ветреной и промозглой зимы («Путешествие по набережной»). Ну как после этого сказать, что Крым – не наш? Андрей Расторгуев Синицын Т. Рисунки на берегу: Сборник стихотворений / Тихон Синицын. – Севастополь: ООО «ГПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2015. – 80 с. 20,07.2015 |
