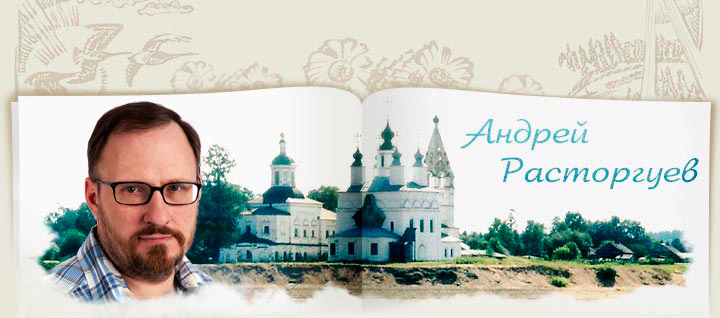
Екатеринбург в 3D?  КАТЕРИНБУРГ В 3D? КАТЕРИНБУРГ В 3D?Символы и образы уральской столицы стоит поискать в литературе о ней Долгие и не всегда успешные разговоры про образы и бренды Екатеринбурга давно навели на мысль: может быть, стоит посмотреть, что город накопил в литературной части своего символического капитала? Хотя эта часть и не столь велика, как у Москвы и Питера, но собирается почти три сотни лет. А последние полтораста, со времён Мамина-Сибиряка – особенно активно. Что, правда, предполагает немалое количество сил, потребных для инвентаризации. Эта взаимосвязь явно занимает и Георгия Цеплакова, чью статью «Культурные мифы города: система координат» опубликовал в своём апрельском номере журнал «Урал» [http://magazines.russ.ru/ural/2017/4/kulturnye-mify-goroda-sistema-koordinat.html]. Сам себя её автор назвал как маркетёром, так и литератором. Но, похоже, пошёл именно от маркетинга. Вначале описал три, по его мнению, ключевые региональные мифологии, а потом уже перечислил ряд уральцев, которые вроде бы воплощают их в собственных творениях. Мифологии названы по трём именам, которые автор считает присущими этому конкретному месту исетской долины – Урал, Свердловск, Екатеринбург. Понятно, что формально за свою историю город именовался только двумя словами из этой триады. Но, как ни крути, из уральской округи его не вынешь. Под уральской громадой За Уралом, причём отнюдь не только Средним, уверен Цеплаков, закрепились такие характеристики – горный, ископаемый, торфяной, тяжёлый. К ним, ссылаясь на неназванные фольклорные, научные и художественные тексты, автор добавляет холод, грубую первобытность, своенравие, свободу и мощь… Соответственно, в уральской мифологии «очень мало человеческого, тёплого», тяжёлые горы «давят медно-каменной громадой». И для поэта, писателя и вообще обычного человека «такая природа – вещь в себе. Она непроницаема, непрозрачна…». Собственно, и человек этот, по мнению автора – «исторически безвольный крепостной, одержимый страстями… раб природы». А поэт, «воспевающий именно Урал, – наивный фаталист… он безропотно терпит и ждёт конца… Уральская жизнь – тягучая, однообразная пассивность, тянущаяся скучная повседневность плена. Что воля, что неволя – всё равно…» Тех, у кого рука уже тянется к парабеллуму, попрошу потерпеть – возможно, другие качества уральских человека и жизни автор отнёс к другим мифологиям. А вот, кстати, и некоторое отступление: по его мнению, оценка одной из героинь советского кино – «с Урала» – выдаёт в персонаже «не только отсутствие тонкости, но независимость и внутреннюю силу». Возможно, литератор и маркетёр просто решил напомнить, что Павел Бажов – отнюдь не сказочник, и «в его малахитово-медной страшноватой сказовости… себялюбивая, властная Хозяйка-малахитница» – хтонический персонаж покруче толкиеновского Саурона. И, стремясь преодолеть общую привычку к детским интерпретациям бажовских сказов, слегка переборщил с провокацией: мол, «смерть и унылая вечность – вот что ждёт любого, кто решит поверить всем этим Хозяйкам, Синюшкам, Огневушкам да Серебряным копытцам». Впрочем, провоцируя на мысль и разговор, автор, скорее всего, ясно понимал, что делает. Потому что логику развивает дальше. Человека-де таким уральская природа делает в отместку за попытку завоевать её. Такая вот агрессивная ответка, которая вновь попёрла на свет в начале 1990-х в карнавальном, ругательном, низовом начале, например, ранних стихов Александра Верникова, Антипа Одова и Виталия Кальпиди… Цеплаков даже использует совсем уж ругательный эпитет – «Вонючий поток». Однако считает его просто «скучной тривиальной данностью уральской мифологии», которую литераторы взяли тогда в обработку, смакуя и эстетизируя «отталкивающее, брутально-смертельное, убивающее начало». Один и тот же «глубинный ужас», преследующий человека, по мнению автора, описывают все театралы, рокеры и поэты, вышедшие со Среднего Урала. С тем же прямо или косвенно он связывает и уход ряда этих поэтов из жизни или отъезд, который, несмотря на различные бытовые поводы, воспринимается в городе как бегство. А хлынула низовая хтонь потому, что пали скрепы или оковы – как кому – советского строя. Поскольку «эпоха СССР – это время, когда одурманивающее, разлагающее влияние Хозяйки удалось… на время ослабить (за счет упорного, сплочённого коллективного труда людей…)». С этой эпохой, естественно, связана уже мифология свердловская. Между двумя мирами Эта мифология всё ещё многим знакома – «мощь свердловских заводов» и железобетон, мир «насквозь техногенный, урбанистический». Промышленность, естественно, военная, город тоже – «никакого потребительства». Именно отсюда – крылатая фраза «опорный край державы». И всё же автор добавляет ещё одну особенность – особый духовный статус тяжёлого артельного труда, который был и ранее свойствен России, а теперь попросту вышел на первый план. И тут уже надежды отложить своё несогласие никакой не просматривается. Труд коллективный – да. Но в артели сбивались самодеятельно, добровольно – не случайно и «Дубинушку» или как минимум один из её вариантов считали революционной песней. А коллектив индустриальный складывался совсем иначе – Цеплаков и сам говорит об этом, отмечая, что при смене мифологий человек вышел из природной тюрьмы в военно-заводскую замкнутость. Третьего дано вроде как не было: «Каждый выбирал для себя – терпеть холодную любовь природы или… военно-промышленный гнёт…». В качестве иллюстрации приводится «Уральская рябинушка» – мол, наглядная картинка метаний лирического героя между двумя мирами. Не между кудрями токаря и кузнеца, понятно, а между рябиной и дальними заводскими зарницами… Каждый ли? А ну как иной из поэтов-писателей другую дорожку обнаружил? Можно и заставших ту пору читателей поспрашивать – тоже пока не вымерли. Заодно, раз уж начал, придётся и к авторскому представлению об уральском мифе вернуться. Вот если Урал издалека и как водилось исстари Камнем или Каменным поясом назвать – тогда он, конечно, един и неделим. Вблизи же хочешь не хочешь, а делиться начинает, причём как по природным, так и по историческим особенностям. И даже если довелось все его части поглядеть и до Новой Земли добраться – склеить можно только воображением. А воображение ещё и от настроя зависит. Вот, например, лауреат литературной Бажовской премии поэт и культуролог Нина Ягодинцева, живущая в Челябинске, пройдя «по каменным ручьям, по грозным гулким рекам», в конце тех же 1990-х увидела «Тома тяжёлых скал,/Как будто свой архив Господь-библиотекарь,/ Спеша, перемешал…» И теперь «Средь эпосов долин и грозовых риторик/ С закладками цветов/ Он ищет, торопясь, давно забытый томик/ Своих стихов…». Тоже, конечно, тяжесть, но давит ли? Тут явно другое течение. Да и в советские времена, если заглянуть, к примеру, в поэтическую антологию «Екатеринбург», изданную к 280-летию города – не индустрией и войной единой. У Людмилы Татьяничевой в её хрестоматийном «Когда говорят о России…» синий Урал начинается отнюдь не с мартенов и домен, а с босых сосен, что «как девочки, …сбегают с заснеженных скал…». У Ксении Некрасовой разные стороны уральской жизни срастаются воедино и отнюдь не темно: «…Колебля хвойными крылами,/ лежал Урал на лапах золотых./ Электростанции,/ как гнёзда хрусталей,/ сияли гранями в долинах./ И птицами избы/ на склонах сидят/ и жёлтыми окнами/ в воду глядят…» Николай Куштум, правда, явно сострадает кедру, упавшему в реку от взрыва, и барсучьему выводку, что вцепился в его сучья. Описанный же им строитель совершенно спокойно напевает что-то весёлое. Вот, кажется, обоснование для размашистого ответа со стороны мрачной уральской хтони… И всё-таки заливать её одной краской вряд ли стоит, равно как и бажовские сказы. Тем более что они – произведение авторское, которое, конечно, отражает народное сознание, но отнюдь не совпадает с ним. В личном пространстве Вернёмся, однако, к теме свердловской мифологии. По мнению автора статьи, «типичное свердловское мировоззрение», вполне пригодное для священной войны, в мирное время стало, в конце концов, восприниматься абсурдом и вызывать бурный протест. Хотя лирический герой этого пласта литературы, считает автор, не только боец и бунтарь, но и бессребреник, готовый к самопожертвованию. А «давящий заводской мир не дает человеку даже малейшего шанса остаться в личном пространстве». И герой этого мифа, в отличие от мифа уральского, не смиряется. Эту вполне чёткую логику Цеплаков, однако, тут же размывает рассуждением, что «об экзистенциальных, солидарных, исповедальных, иронических переживаниях в крупном военно-промышленном городе написано и создано огромное количество литературно-художественных произведений». И к уже упомянутой нами Ксении Некрасовой в числе представителей свердловской школы, богатой разными свершениями – «консервативными и новаторскими, серьезными и ироничными», присоединяет Бориса Марьева, Майю Никулину, Александра Еременко, Евгения Касимова, Юрия Казарина, Романа Тягунова, Максима Анкудинова, Евгения Туренко, Андрея Санникова и Бориса Рыжего… Поэты действительно хорошие и разные, как и их лирические герои. Но критерии отбора в этот список не очень ясны. И почему в него включены авторы, которые начали писать и выступать в 1990-е, тоже не очень понятно. Насколько всё-таки каждый из них подтверждает мысль о сознательном противостоянии заводскому миру – или идее, предназначению, которые, по словам Цеплакова, вроде бы сковывают свердловского поэта? Словом, простой, без глубокого анализа обзор не слишком стыкуется с логическими построениями. При стыковке схема начинает потрескивать, реальная литературная жизнь в неё не вмещается. А развитие схемы между тем увлекает, объясняя нарастание индивидуализма и диссидентства. По мнению Цеплакова, именно благодаря небольшой добавке последнего «власть мифического Свердловска» стала восприниматься «как кровожадная рассудительная маска». Но произведения свердловских авторов, которые ещё до перестройки устремились прочь «от власти Военного Завода», – песни тех же рокеров, фантастика Владислава Крапивина, пьесы Николая Коляды – звучат «одинаково торжественно, возвышенно и безысходно». За десятилетия идея бегства от той самой маски, сдаётся, не только укоренилась в Екатеринбурге, но и изрядно подзатёрлась. Но, похоже, именно она продолжает подпирать ту, мягко говоря, настороженность, с которой многие встречают литературные попытки оторваться от сугубо индивидуального мира. Не замечает их, судя по приводимому им перечню фамилий, и автор статьи. Не укладываются в схему? А схема, как и обещано, продолжается мифом Екатеринбурга, в контур которого, по мнению автора, «единственно и вписывается расслабленная, комфортная жизнь обычного, среднего человека». В этой ипостаси город «соразмерен личности, сподручен ей…» Житель такого Екатеринбурга, считает Цеплаков – «активный позёр, весельчак, денди и даже художник… любит жить красиво и поесть вкусно… Он эстет…, претендует на утонченность и образованность, на знание традиций… парадоксален и эксцентричен». Екатеринбургский миф – «явно от торговли, искусства, светских удовольствий, культуры, науки, красноречий, позднее – подиумов. И художники, и поэты, описывающие Екатеринбург, оттуда же…» Многое из этого в нынешнем Екатеринбурге, конечно, присутствует. И всё же оглянешься вокруг – и припомнишь старый анекдот, когда наш отечественный мальчик, услышав о преимуществах советского образа жизни, хнычет: «Хочу жить в СССР…» Но мы ведь и говорим о мифах. Собственно, автор статьи и сам отмечает в этой весьма привлекательной конструкции хитрость и двусмысленность. Екатеринбург, по его словам, воплощает светскую мифологию европейских интеллектуалов-филистеров нового времени, которая дрейфует между гедонизмом и христианской религией. При этом соответствующий такому воплощению список литературных имён в тексте отсутствует. Попытка вызова Понятно, что «разные мифологии, когда сосуществуют параллельно, на одной территории, вообще редко гармонично взаимодействуют». А во времени? Разве конфликты, которые описывает статья, происходят в этой триаде не сегодня? Прослеживая, как сменяются прорастающие друг в друге мифы и даже как сосуществуют в городском пространстве, автор от чёткого ответа на этот вопрос мне кажется, воздерживается. Лишь заключает, что попытки обеднить екатеринбургский миф – как, например, историю 1990-х в известной книге Алексея Иванова с матерным названием – могут оставить индивидуального екатеринбуржца один на один с уральской стихией. И ему, Георгию Цеплакову, литератору и маркетёру, трудно представить, как в мороке этой стихии «можно занимать радостным творчеством и как этот морок можно положительно брендировать». В целом сочетание убедительных и спорных выкладок и ремарок делает статью тем, чем она, видимо, и должна быть – интересным вызовом к продолжению разговора. Причём не вообще, а в предложенной системе координат, над которой едва ли не в равной степени потрудились оба воплощения автора. Маркетолог, справедливо считая, что у нас «должно быть несколько территориальных брендов», сконструировал схему трёх мифологий. Литератор облёк её в метафоры. И всё-таки за ними, наверное, не угнался третий – исследователь-культуролог. Именно третий, думаю, может сопоставить с предложенной системой весь набор образов Екатеринбурга, накопленный в литературе – хотя бы русской и хотя бы начиная с Мамина-Сибиряка. Тогда, возможно, подтвердится, что капитал городских смыслов и символов требует гораздо большего количества координат – и одновременно создаёт основу для творческого выхода в более многомерное, чем 3D, пространство. Андрей Расторгуев 27,04.2017 |
