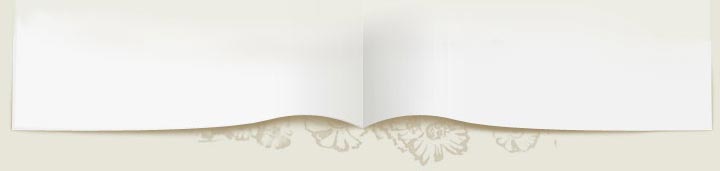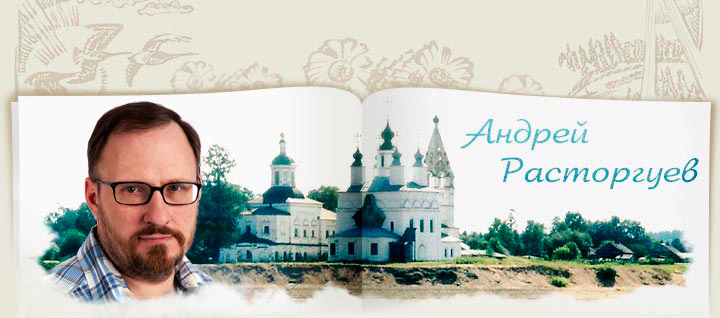
«Хорошо, что я здесь побывал...»  90-летию 90-летиюНародного поэта Республики Коми Альберта Ванеева «Хорошо, что я здесь побывал...» О русских переводах поэзии Альберта Ванеева Несколько лет назад в пока что последний приезд в Сыктывкар услышал: Ванеева теперь почти не читают, во всяком случае, по-русски. Советский, мол – остался в прошлом. Что читатели нынче вообще наперечёт, понятно. Но если даже те немногие, что сохранились… «И пойму, что приехал домой…» С досадой тогда задумался: стало быть, и плоды тех двадцати лет, что я с середины 90-х отдал ему и его стихам как переводчик, сегодня тоже превратились в историко-литературный артефакт? Неужели Народного поэта Республики Коми Альберта Ванеева и впрямь утянул в небытие минувший XX век, границу которого он перешагнул перед уходом? Но в тексты, которые в своё время прихватил с собой, уезжая после семнадцати лет жизни в Сыктывкаре назад на Урал, спокойно и отстранённо я заглянул только сейчас. Из переводов, выполненных почти тридцатью русскими поэтами, отбирал, на мой тогдашний взгляд, лучшие. Надеялся, что когда-нибудь понадобятся для ванеевского избранного. На коми оно с тех пор уже появилось, а на русском – ещё нет. И вот – новый юбилей, дающий повод как минимум подумать, каким могло бы стать это избранное. Скажем, к столетию поэта. Начиная с 1966 года, эти переводы увидели свет в Сыктывкаре и Москве под обложками авторских сборников Ванеева. Как уже доводилось писать, в издательском отношении он был благополучен – по крайней мере, внешне. В общей сложности за его жизнь и после неё на великом и могучем вышли десять стихотворных книжек, половина из них – в столице. И ещё полтора десятка – на коми. В нынешние времена ничем, кроме денег, не ограниченного самиздата такое количество особого впечатления не производит. Но для того времени цифра солидная, свидетельствующая, что автору вполне удалось стать частью советской системы литературного художественного перевода. Правда, с течением времени у этой удачи проявилась и оборотная сторона. Но о ней чуть позже. Что мы, собственно, имеем в виду, когда говорим о каком-нибудь поэте, что он сугубо советский? Как вариант – что он пишет о вещах, обращение к которым в ту пору официально поощрялось. В этом смысле Ванеев, безусловно, принадлежит своему времени. В его тѐмнике – Великая Отечественная война и угроза новой мировой, военное детство и выход деревенских пацанов в люди – советскую интеллигенцию, малая таёжная родина и вечная раздвоенность между нею и городом, промышленное освоение Севера… В общем, личное в связке с общественным – как тогда и полагалось. Вот немного из стихов – и соответственно переложений – 60-70-х годов. С похорон матери, что изработалась во время войны, он переходит на ту самую угрозу (перевод Алексея Смольникова): …Мы выросли, на ноги стали, Мы знаем, кто был виноват. Но снова за дальнею далью Готовят к походу солдат… Но вновь меж войною и миром Подымет страна сыновей. Нам бруствером будут могилы Убитых войной матерей… Четырёхлетний внук, придя с бабушкой в парк, спрашивает у неё: «…Почему есть дедушка у Вовки? // Почему нет дедушки у нас?..» Та показывает ему последнюю фронтовую фотографию безусого лейтенанта, а внук недоволен – больно молод на ней дедушка. Отец вопрошает сына, приехавшего на время из города: «…Что привёз – удачу иль беду? // Как работа? Есть ли толк? Как люди // К твоему относятся труду?..» А тот с некоторой долей пафоса отвечает (перевод Николая Ерёмина): …Мы путем Куратова идём. Знаю я, что нет пути иного У людей, владеющих пером. Красоту наречия родного В каждый дом мы бережно несём… А вот сразу двое сыновей – инженер и врач – приехали к матери, которой есть за что их похвалить. Но делать это она не торопится («Материнское слово», перевод Глеба Пагирева): …А потом поправит, лучше видя. Такова и родина у нас… На кого, скажи, нам быть в обиде, Если мать не хвалит каждый раз? И без производственной зарисовки с традиционных для Коми края лесозаготовок не обошлось. Правда, здесь даже тема государственной награды за ударный труд так удачно влилась в общую молодую энергию, что этот образчик социального энтузиазма хочется привести целиком. Да и для понимания картины тоже (перевод Алексея Смольникова): Это верно: в лунном свете Долго-долго спят леса. Солнце выйдет на рассвете На каких-то три часа. Только наши лесорубы Ожидать не будут дня – Сосны сбрасывают шубы, Под пилой струной звеня! Зажигает трактор фары И гудит себе в ночи. Тракторист и трактор – пара: Видно, оба горячи. Лишь порой в сиянье звездном Вниз Полярная звезда Взглянет вдруг на лес морозный: – Вот работа! Это – да! И стряхнет, как бы случайно, С неба яркую звезду: – По работе получай, мол! Получай, мол, по труду! И гореть ей, красоваться У кого-то на груди. А чему тут удивляться? Не поверишь – в лес пойди! А в «Бане по-отцовски» та же тема родительских расспросов вполне обходится без идеологических котурнов (перевод Алексея Смольникова): «Как поеду домой, мне заране // Топит батя горячую баню… // И пойдут там расспросы и споры, // Словно лектора дал ему город… // Жар такой, что пронзает все кости. // Потерпи, раз пожаловал в гости. // А потом окачусь я водой // И пойму, что приехал домой…» Кроме того, именно это – Великую Отечественную и гибель брата на ней, военное детство и превращение деревенского выходца в поэта и учёного, вечное стремление на родную Мезень и невозможность окончательно вернуться – Ванеев и пережил. Так что писал не по указке сверху, а о пережитом. А что до промышленного освоения – не зря же лауреата премии Коми комсомола, как и других вышедших на профессиональную творческую стезю, государство, частью которого был Союз писателей СССР, отправляло тогда в поездки по городам и весям. «Не скажу о родине плохого…» В таких поездках, получается, и была подсмотрена одна из кочующих по сибирским и северным стройкам семей («В аэропорту Вуктыла», перевод Алексея Смольникова): …И вздохнёт жена: – Ведь я ж просила… Ты сказал: окончен наш поход. …Скоро в Заполярье из Вуктыла Увезёт их быстрый вертолёт… Заревом газовых факелов в то не слишком озабоченное экологией время тоже можно было вдохновиться (перевод Вячеслава Кузнецова): Словно гигантский костёр над лесом Не в силах сдержать свой пыл – Сияньем, сплошной огневой завесой Нас встретил зимний Вуктыл… О нашей воле, о нашей силе Ещё услышит народ. «Сиянием Севера» мы окрестили этот газопровод. Те, кто вблизи видел подобные факела на нефтяных и газовых промыслах, наверняка согласятся: слова «воля» и «сила» рядом с ними вполне уместны. А вот в хрестоматийных «Временах года», которые в переводе того же Вячеслава Кузнецова впервые вышли в сборнике «Голубая тайга» (Москва, 1972), пафосный эпизод представляется куда менее оправданным: Своя пора На каждой широте. И тот, кто в Коми жил, Тот знает это: Когда метель Буянит в Воркуте, В Ухте – весна, А в Летке – просто лето… Двойное «тот» слегка коробит, хочется выправить. Но природа вытянувшейся с юга на север республики именно такова – жил и знаю. А вот следующие строчки чужеродно встают на ходули: Мой край родной, Я песнь тебе пою, Любовь к тебе Воистину бездонна!.. Хотя тоже правда – глубину своей любви к родному краю Ванеев подтверждает постоянно. Это вообще главная из его сквозных тем. …А сгустятся сумерки, чёрные, как сажа, Я костёр под елью жаркий разожгу, Я в долгу у ели, у костра и даже У дождя лесного навсегда в долгу. (Перевод Ирины Озеровой) …Я и дождь осенний грешным словом В горький час в сердцах не оболгу. Не скажу о родине плохого. Верьте иль не верьте, – не могу. (Перевод Алексея Смольникова) Специально проверил, не два ли это перевода одного стихотворения. Альберт Егорович, бывало, устраивал между своими переводчиками заочное состязание, предлагая заново перевести уже переложенные стихи. То ли испытывал, то ли всё время искал наилучшего. Возможно, так повелось с его первого русского сборника «Сосны под солнцем», который вышел в Коми книжном издательстве в 1966 году. Сам ли Ванеев к своим первым стихам отнёсся потом критично, Игорю ли Лашкову удалось далеко не всё. Так или иначе, а по моему собственному ощущению среди текстов этой книжки несовершенны многие. Сам же Альберт Егорович потом воспроизводил в последующих книжках только некоторые из них. В первую из этих последующих книжек – «Голубую тайгу», которую издал московский «Современник» в 1972 году, многие стихи вошли в новом переводе Алексея Смольникова. Да и, сравнивая разные другие сборники, можно обнаружить два, три, а то и четыре варианта перевода одного и того же стихотворения. Подчас они настолько отличаются друг от друга, что единство первоисточника выдают только некоторые детали. Помню, как с удивлением нашёл в «Северных сонетах» (Сыктывкар, 2001) два явно созвучных текста. Когда Печора медленно и трудно проталкивает к морю рыхлый лёд, когда едва оттаявшая тундра семью цветами радуги цветёт… Это – мой. А вот – Ларисы Никольской: Когда прохладная весна придёт, на север тяжко движется Печора, когда подснежник в тундре расцветёт, ещё не зная, что угаснет скоро… Что мы перевели один и тот же исходник, дошло не сразу. А потом и ещё одно такое же созвучие обнаружил. Получается, и сам Ванеев, составляя русский извод своих «Войвывса сонетъяс» (Сыктывкар, 1988), этого не заметил? Думаю, он пошёл на это вполне сознательно. И, устраивая заочное соревнование между нами, хотел сопоставить совсем уж наглядно. А если варианты получились качественными, но разными – зачем какие-то из них оставлять втуне? Так что в русской книге его сонетов может оказаться чуть больше стихов, чем в изначальной, на коми языке. Однако подсчёты, как и поиск второго совпадения, оставим дотошным исследователям или просто интересующимся – надеюсь, они найдутся. В случае же с приведёнными выше «дождевыми» строками Озеровой и Смольникова исходные стихотворения, похоже, разные. Просто – ещё одна особенность: Ванеев нередко заново обращался к ранее найденным темам, образам и формам. Скажем, в знакомом по стихам Маяковского размере («Здесь будет город-сад…»), если верить ещё одному опубликованному в «Голубой тайге» переводу Смольникова, написал однажды о селе с загадочным названием Камсамас. А через много лет использовал тот же размер в стихотворении о другом месте на берегу Вычегды – Карыбйыв. Но если в первом случае говорил о взаимосвязи времён, народов и поколений, то во втором с горечью – о человеческом пренебрежении красотою родной земли. Есть примеры подобных возвратов, как минимум тематических, и в других поздних стихотворениях. А сонеты, по-моему, вообще стали квинтэссенцией его поэтического творчества. «Когда к нам на Север приходит весна…» Из переложений ранних ванеевских стихов с основной тональностью его высказываний о родном крае, на мой взгляд, абсолютно совпадает своим звучанием «Ручей» в переводе Ирины Озеровой: Ему хвалебных слов не адресуют… Но всё течет без устали ручей И меж корней и валунов рисует Узоры жизни маленькой своей. Даёт он и умыться, и напиться, Всем равно – не откажет никому. Он продолжает безымянно литься: Не выдумали имени ему. И, не гордясь заслугами своими, Несёт он людям радость сотни лет, Прославлено или безвестно имя – Лесному ручейку и дела нет. Чувство к родине естественным образом переплетается с любовью к женщине: Когда к нам на Север Приходит весна, Ты, точно девчонка, Лишаешься сна. …Когда ты со мною, Стою, как гора. И кажется – тёплые Дуют ветра. (Перевод Алексея Смольникова) Да, я люблю тебя, И всё полно значенья – И этот день, и даже этот миг, И помысел, и слово, и движенье, И времени меняющийся лик… (Перевод Алексея Смольникова) Как бы то ни было, поздний Ванеев пафосом точно не увлекался. А по молодости? Вот ещё одно каноническое в переводе Вячеслава Кузнецова, впервые опубликованное в сборнике «Надпись на снегу» (Москва, «Советский писатель», 1975), а потом разошедшееся по хрестоматиям в Коми: Краем медвежьим, тайгой нелюдимой, Вотчиной снега, пургою клубимой, Не называйте мой Север любимый… Именно так вполне может сказать человек, действительно любящий родной край. Медведи, тайга, снега? Да тут люди живут! И большие дела делают: …Так я отвечу людям хорошим: Дело не в том, много ль тут мошек, – Всё дело в том, многое ль можем… Уже выговорить трудновато. А потом ещё и литавры начинают греметь: Север – богатые недра и воды, Стройки и шахты, гиганты-заводы… Север – люди особой породы. Золото сосен мы гоним по рекам. В тундре огни зажжены человеком. Знамя труда сияет над Веком!.. С помощью Ирины Михайловны Ванеевой, которой были посвящены приведённые выше стройки о любви, проверил оригинал. Нет там никаких знамён. Да, приподнято, но пафос через края не бьёт. В результате пришлось перевести заново, более близко к исходному тексту, в том числе размером: Стороною, Богом позабытой, в белый снег по маковку зарытой, Север мой любимый не зови ты… Во второй строфе логика та же, но с иронией, предупреждающей излишний пафос: Посреди брусники и морошки мы живём не только для кормёжки комара и ненасытной мошки… И дальше – тоже с подъёмом, но попроще, как говорится сегодня, без фанатизма: Как сиянья северного пламя, яркие огни над городами запылали нашими трудами. Славны мы не холодом калёным – золотом и чёрным, и зелёным да горячим сердцем просветлённым… Вот, мне кажется, мы и вернулись к той самой оборотной стороне включённости Альберта Ванеева в советскую переводческую машину. И к вопросу о качестве её продукции. От Светлова до Фролова Как уже отмечал, стихи Ванеева перелагали в общей сложности около 30 переводчиков. Некоторые известны широко, другие – меньше. Некоторые – перевели одно-два-три. Другие – помногу. И с разным успехом. В уже упомянутые «Сосны под солнцем», например, вошли два перевода, сделанные Михаилом Светловым. Имя знаменитое, но даже в более удавшемся «Снегире» глаз и язык запинаются о некоторые элементы и строчки: Мой снегирь, красногрудый ты мой! Ты у вьюги пощады не просишь. Как ты выжил холодной зимой? Ведь ты шубы, как люди, не носишь… А вот получивший со временем всероссийскую известность русский лирик Алексей Решетов, на мой взгляд, с Ванеевым явно совпал. Но судить об этом позволяет лишь один песенно звучащий перевод, вошедший в сборник «Снежная республика моя» (1977): Ты на земле такой – Ни льдов, ни инея, Вот за садами Плещет море синее, И пусть к твоим ногам Не звёзды снежные, А лепестки слетают С веток нежные, Ты будешь срока ждать, Когда воочию Увидишь землю Северную, отчую… В этом же сборнике опубликован лучший, по мнению Ванеева, перевод его «Клестов», выполненный Эриком Тулиным: …У летних птиц репертуар богат, А у клеста мелодия проста. И все же нам дороже во сто крат Зимующая песенка клеста… Также единожды помимо уже названного Николая Ерёмина среди отобранных мной встречаются переводы Ю. Полякова, И. Поздняевой, В. Юршова, В. Щекачева, В. Мартынова, Н. Королевой. Поиск в интернете позволяет расшифровать инициалы лишь предположительно. И вспомнить короткую фразу Альберта Егоровича, что иногда его подстрочники доставались студентам Литинститута… По несколько стихотворений перевели Диомид Костюрин, Михаил Шаповалов, Олег Мишин, Нина Альтовская, Ирина Озерова. Последняя, судя по «Ручью», также лучше многих прочувствовала ванеевский поэтический дар. Отнюдь не случайным было и сотрудничество с Ларисой Никольской, которую относят к поэтической школе «тихих лириков». Кроме Глеба Пагирева с подборками ванеевских подстрочников работали Виктор Потиевский, Владимир Цыбин, Михаил Шаповалов, Геннадий Иванов, Николай Лисовой. Основной же вклад в массив переводов, сделанных до начала 90-х годов, вместе с Вячеславом Кузнецовым и Алексеем Смольниковым внесли Игорь Лашков и Геннадий Фролов. Большинство названных – поэты столичные. Как едва ли не всё в СССР, сообщество литературных переводчиков тоже было москвоцентричным. И карельская прописка Олега Мишина и Эрика Тулина этого стремления к центру отнюдь не перевешивала. Но поначалу Ванеев испытывал своих коллег и в самом Коми крае. Именно благодаря такому поиску, полагаю, под некоторыми переводами можно увидеть подписи Виктора Кушманова, Александра Клейна и Николая Володарского. Позднее как минимум однажды прошёл пробу Александр Флешин, который, если верить интернету, в середине 1970-х годов попал в Коми АССР по политической статье как антисоветчик, а после освобождения прожил ещё год в Микуни. Вслед за Лашковым и Смольниковым он перевёл стихотворение о девочке, которая «В окружённой тайгой деревушке, // В стороне от широких дорог…» разучивает вальс Чайковского. И – гораздо ближе к оригиналу. Это я понял, когда, пытаясь выбрать из двух переводов лучший, попросил у Ирины Михайловны Ванеевой подстрочник и этого стихотворения. К такой же просьбе подтолкнули варианты ещё нескольких десятков текстов… Этот корпус переводчиков до начала 90-х годов и формировал облик, в котором Альберт Ванеев представал перед русским читателем. Причём, если не считать отдельных неудач, вполне качественно. Последней его московской книжкой стали «Таёжные ручьи», изданные «Советским писателем» в 1989 году. Сборник был составлен из переводов Геннадия Фролова. Для следующей книги тот же Фролов перевёл цикл сонетов «Орбита солнца». Готов уже был к тому времени и венок сонетов «Деревенька моя» в переложении Алексея Смольникова. Предполагалось, что этот задел продолжит Лариса Никольская. Но до своего ухода в 1992 году она успела перевести всего тридцать сонетов. А советская машина художественного перевода сломалась вместе с Советским Союзом. Во всяком случае, организационно. И тогда Ванеев снова, как в начале своего пути, стал искать переводчика в Коми крае. Так мы теснее и познакомились. Сначала он предложил мне на пробу несколько обычных стихов. Вторым испытанием стали несколько сонетов, в том числе два, которые, как открылось позже, перевела и Никольская. А потом началось то, что сегодня называется проектом – целенаправленная, едва ли потогонная, иногда вызывающая желание всё бросить работа. Но обошлось: её результатом стали 128 новых переводов и книга «Северные сонеты», подписанная в печать за несколько дней до начала нового века. «Солнце уберечь в моей душе...» Ванеев, однако, не отставал. И ещё до выхода «Северных сонетов» озадачил меня новой пачкой подстрочников. На сей раз это были стихи из его последней коми книги «Гыяс» – «Волны». Волны, волны! Не ведаю дня, чтобы вы не настигли меня. Был я молод и весел пока – и вода колебалась слегка. И колосья на поле ржаном золотым колыхались огнём. На лугу волновались цветы удивительнейшей красоты. Ничего, ничего не забыл – до последнего дня сохранил… Были яркие молнии злы, и седые катились валы, и, летя без руля и ветрил, я высокую мачту рубил… Чем над нами темней небосвод, тем волна беспощаднее бьёт. За столетьем столетье подряд над Россией тайфуны летят… Волны, волны! Не ведаю дня, чтобы вы не настигли меня. Этот и немалое число других переводов были уже готовы, когда 12 декабря 2001 года 68-летнего Альберта Егоровича не стало. Остановиться – значило оставить их под спудом. Работать дальше – сохранить шанс на то, что они когда-то увидят свет. Кроме этого шанса, терять было нечего. Если не считать возможного гонорара, который в своём реальном наполнении за годы постсоветской инфляции изрядно усох, да ещё и, естественно, делился пополам между автором и переводчиком, проект изначально не предусматривал никакого вознаграждения. Так что работа продолжилась – и принесла новые открытия. Таковыми стали, к примеру, стихи на острые темы нового времени. Отнюдь не антисоветские – конъюнктурным перевёртышем в них Ванеев не выглядел. Но написанные с чувствами человека, который искренне переживал прошлое и переживает происходящее. Страницы недавней истории, в которой Коми АССР была известна едва ли не прежде всего как большой лагерь: Коми край – украина ГУЛАГа, опечаленных глаз не таи… Никакая не стерпит бумага, что терпели страдальцы твои... Но сгорать со стыда от упрёка мы с тобой, Коми край, не должны – ты и сам до последнего срока отстрадал безо всякой вины. Свежее продолжение этой истории, ясно видимое на сыктывкарском кладбище, где к памятникам с именами прежних знакомцев, оставивших по себе самую разную память, добавляются надгробия молодых парней, погибших на Кавказе: ...Они приходили надолго, да, видимо, так суждено, что горечи ратного долга хлебнули по самое дно... Пусть разума хватит и силы нам помнить о них до конца… Январское смотрит светило с небес, как лицо мертвеца. Морок, напускаемый в том числе телевизионными выступлениями популярных экстрасенсов: ...За текучими теми туманами – цепкий коготь кота-баюна… Спекулянтами да шарлатанами нынче Родина с верхом полна. А на рассвете с лесных полян в дома опять же прилетают похоронками чёрные бабочки, вместе с которыми «...доносится в горькую пору // с пограничной лихой стороны, // полосуя людей без разбору, // чёрный ливень гражданской войны...» Опорой и в это время, однако, для поэта остаётся родная земля: ...А в нынешнем сердечном перекале стыдят меня – вполголоса и в крик, что отчины своей не упрекаю, не поминаю злобой материк. До смертного конца не расплатиться за хлеб и соль земли. И от и до меня поймёт ликующая птица, в краю родимом вьющая гнездо. Как прежде близка родная природа: Сойдёт закат на дремлющие ели, сгустится воздух, сгладятся следы – услышишь травы, шепчущие еле, и тихое движение воды. В такие просветлённые мгновенья восходит мысль из бесконечной мглы и разрешает давние сомненья, и разрезает древние узлы... «...Я хочу угрюмою порою // солнце уберечь в моей душе...», заявляет поэт. И переплетает с этим желанием современные тревоги в большом цикле миниатюр «Капли росы», которые он сам назвал лирическими, а я бы через дефис добавил определение «философские». Здесь, как водится в жанре подобных заметок на полях жизни, Ванеев обращается ко многим из своих традиционных тем. И опять же к теме Родины: На родине и сердце чаще бьётся, оттаивают мысли и мечты, и даже ель угрюмая смёется… А на чужбине в тягость и цветы. И к теме самоотверженного труда: Что мы – заговорённые что ли? Но, труду обретённому рад, каждый в пламя – по собственной воле, хоть не каждый приходит назад. Грустно иронизирует над теми же трудягами, которым, казалось бы, уступают место лукавые ловкачи: Шагали две лисицы по дороге. Кому капканом перешибло ноги? Такое часто у людей случается: кто отстаёт – в капкан не попадается. Пронзительно замечает о человеческой убыли 90-х: Гнездовье журавлиное найдёшь – недолго, примечают, проживёшь. Все более кладбищенских полей. Откуда в мире столько журавлей? И, конечно, вспоминает о любви: Три сосны, островок на реке. Но казалось – плывём в океане… Все минувшее нынче в тумане, кроме сосен на том островке. Все эти и многие другие стихи, в том числе, может быть, ещё сохраняющие отголоски прежнего Ванеева, в конце концов вошли в его финальную книгу «Лебединая дудка», изданную в Сыктывкаре в 2013 году. Народный инструмент с таким названием действительно есть у коми, а прощальный отголосок в нём, судя по всему, услышал и сам автор, когда именно так озаглавил стихотворение памяти одного из своих друзей – коми композитора Прометея Чисталёва. В созвучии языков Уже на правах единственного переводчика, подготовившего этот сборник, включил в «Лебединую дудку» свои наиболее удачные, на мой взгляд, переводы ванеевских сонетов. И, кроме того, обсудив это с Ириной Михайловной, около 30 стихов переложил заново, тем самым вступив в соперничество со старшими коллегами. Выделил для себя такие стихи, сравнивая варианты переводов. Исходным каждый раз было ощущение, что один поэт удачно выделил одну деталь, другой – другую. Ситуация, в общем-то, для переводческого дела типовая. Но, войдя в когорту действующих ванеевских переводчиков последним и как минимум пока оставшись в ней в одиночестве, решил сделать собственную попытку – сохранить по возможности все лучшие находки оригинала. Так появился мой вариант давних «Чистых сосен» о родном ванеевском Буткане, где удалось сберечь яркую метафору: «...Через сосны, а не телескопы // бутканские видят звёздный свет...» Точнее предшественников хотелось – и, возможно, удалось – передать нюансы довольно простого на вид стихотворения «Отцовские руки»: «...Чёрствые мозоли // до живого слоя // пропитались крепко // дёгтем и смолою...» В уже упомянутом «Вальсе Чайковского» показалось важным наряду со свойственной советскому времени картиной, как девочка в далёком лесном посёлке осваивает фортепиано, подчеркнуть авторскую находку: лебединые-то озёра – как раз в этих самых дремучих коми лесах! Где, стало быть, и Чайковскому звучать, как не здесь? Опять же давнее короткое – в три строфы – стихотворение «Парк в дни войны» вновь попросилось на перевод из-за насущного в те самые дни овоща: «...И каждая в парке берёза, // недоумевая, глядела, // когда под ногами не роза – // картошка листвой зеленела...» В переводах «Колокольчиков», посвящённых коми поэту-фронтовику Серафиму Попову, с которым Ванеев побывал на месте гибели своего старшего брата, мешал перебор пафоса. Попросил у Ирины Михайловны подстрочник – точно: нет там его, только одна приподнятая метафора. А сама трагически лаконичная – опять же в три строфы – картина, предстающая перед читателем, снова проста: Это поле далеко от дома, но как будто мне давно знакомо… Вновь из развороченной земли колокольцы лёгкие взошли. Не молчи, рассказывай скорее. - Шесть снарядов было в батарее да ещё солдатские сердца, бьющиеся насмерть, до конца… Нынче ты один из тех солдат знаешь, где погиб мой старший брат. Хорошо, что я здесь побывал, колокольцы эти повидал... Высоты, которых достигла советская школа художественного перевода, бесспорны и по-прежнему служат ориентирами. Однако реальный производственный процесс всегда отличается от идеала. И то в прежних переводах Ванеева, что показалось мне несовершенством, могло возникнуть по разным причинам. Кому-то из его переводчиков могло помешать недостаточное знание Севера и мироощущения коми людей. Кого-то могла подгонять необходимость успеть к сроку, что указан в издательском плане. Один из литераторов однажды при мне весело рассказывал, как будучи студентом Литинститута на троих занимался переводами на пляже – мол, делали одного из национальных поэтов классиком. В смысле не переводя, а придумывая за него. Лично у меня, однако, оснований упрекнуть кого-либо из коллег в пренебрежении к Ванееву нет. Просто, может быть, на московском асфальте не у каждого была возможность полностью погрузиться в его поэзию. Не каждый сумел удержаться от порыва передать высокое излишне пафосным. Тем более что в те времена это весьма приветствовалось. И самому Ванееву, который был плоть от плоти своего времени, тоже потребовались годы, чтобы отойти от излишней «советскости». Удалось ли мне превзойти предшественников и если да, то насколько, могут судить те, кто знает оба языка и сведущ в поэзии. Они же способны оценить уровень качества тех переводов, что я делал в одиночку, уже после ухода Ванеева. Надеюсь, когда-нибудь это произойдёт. Правда, сам он тоже был скуповат на оценки: без особых разговоров принимал сделанное, выдавал новые подстрочники. Помнится, впрочем, как минимум одно высказывание – что, мол, добавляю в его стихи молодой энергии. Или это он кого-то процитировал... Представляется, однако, что ему вполне хватало и собственной энергии. В том числе – на развитие. С одной стороны, целый ряд тем он пронёс через всю свою поэтическую жизнь, вплоть до «Северных сонетов» и «Гыяс» (и, соответственно, «Лебединой дудки»). С другой – в последних книгах в его традиционном голосе зазвучали новые ноты. И многие стихи отнюдь не позволяют забывать его за рубежом XXI века. Считаю, что этот голос и дальше должен звучать не только по-коми, но и по-русски. И не только для тех коми, кто не знает родного языка, но и для русских жителей северной республики, и людей других национальностей, которые укореняются в ней. Если умные люди в республике это понимают – избранное Ванеева на русском языке обязательно появится. Буду рад, если в него войдут и мои работы. А, возможно, работа над изданием покажет, что ими потребность в переводах его стихов отнюдь не исчерпана. Опубликовано в декабре 2023 года в сборнике "Альберт Ванеев: "Чтоб в парме мог петь на своём языке..." (Сыктывкар) 19,12.2023 |