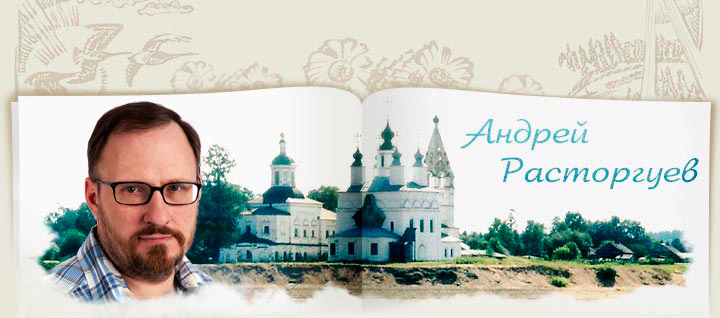
В неровном свете красных звезд (о трехтомнике избранных произведений Александра Кердана)  НЕРОВНОМ СВЕТЕ КРАСНЫХ ЗВЕЗД НЕРОВНОМ СВЕТЕ КРАСНЫХ ЗВЕЗДвыбирают, как жить и умирать, герои Александра Кердана Одним из недавних вечеров, зайдя по очередному адресу из недлинного по случаю лета списка выставленных на продажу екатеринбургских квартир и поднявшись на верхний этаж, обернулся на круглое освещенное предзакатным солнцем окно и опешил… Хотя вроде бы с чего? Не сам ли примерно таким же образом, добиваясь симметрии, прилежно вычерчивал этот символ в пионерском детстве? А в доме, который по сей день носит у горожан звание «генеральского» и до сих пор обслуживается военными, перечеркнувшая круг звезда – знак тем более естественный. Неестественной, однако, показалась собственная реакция на когда-то привычное изображение. Звезда на пилотке или пряжке солдатского ремня и теперь не вызывает никаких отрицательных эмоций. Тут же знакомая сызмала комбинация линий вдруг явила свою инфернальную, каббалистическую ипостась. И когда понравившаяся, в общем-то, квартира по другим соображениям все-таки отпала, с души отлегло. А неожиданное ощущение осталось пищей для размышления о том, как мы изменились за последние двадцать лет. Сулит такую пищу тем, кто желает ее, и новый трехтомник сочинений Александра Кердана, увидевший свет в июле. Правда, боюсь, уже одна эта фраза может отвратить от него рафинированных любителей «чистой» литературы – как минимум поэзии, считающих призванием таковой возвышенное парение над грубой реальностью и испытывающих наслаждение от изощренной формы. Жива, однако, в нашей отечественной словесности и другая, возможно, более присущая ей традиция, когда литература остается средством отражения, осмысления, одухотворения реальной земной жизни. Именно эту традицию, отнюдь не чураясь, впрочем, и формальных поисков, продолжает Александр Кердан. «…Черт догадал родиться комиссаром…» …Я плыл, и дыханье свободы Витало над всем и везде. И сосны, как в поисках брода, Бродили по пояс в воде… К возвышению дух Кердана вполне расположен – и отнюдь не только потому, что Курганское высшее училище, которое он в свое время окончил, было не просто военно-политическим, а еще и авиационным. Однако – возможно, и потому тоже – отправная и конечная точки его поэтического полета остаются на земле: «…без полосы земного притяженья нет никогда и взлетной полосы…». А если значительная доля этой жизни в ее личном измерении прошла в армии, неудивительно, что и согбенный муравей, таща тяжеленную для него соломинку, «…выполняет долг, без жалоб, по-солдатски…». Вполне достаточно, чтобы, с одной стороны, явственно обозначить тяжесть этого долга, а с другой – не впасть в расхожий пропагандистский пафос. В свое, советское время поэт, видимо, отдал дань и ему: …Стоят поезда у перронов, Минуты прощанья летят, И смотрят славянки влюбленно В глаза первогодков-солдат… Разъезды и полустанки… А в сердце и удаль, и грусть. Вернемся, нас встретят славянки – Любимая, мама и Русь! Впрочем, выводя типичную для тех лет и во многом искусственную романтизацию воинского призыва не на партийные лозунги, а на вневременные и более близкие многим понятия, концовка этого стихотворения 1978 года выглядит вполне сегодняшней. Возможно, потому «Славянки» и оказались самым давним из стихов, включенных в это издание. А стихотворение «В Александро-Невской лавре» в 1984 году могли и вовсе почесть за крамолу, достойную как минимум обсуждения на партсобрании. Ну, как же: коммунист, замполит – и вдруг открыто заявляет, что, хотя бы и втихую, заходит в церковь и кается в грехах... Неслучайно, судя по кердановской автобиографии, начальники неоднократно предлагали ему выбирать между стихами и службой. «А для меня лично, – заявляет писатель, – проблемы выбора никогда не существовало… Творчество давало возможность сохранить свое лицо, легче переносить армейские будни…» В еще менее давние времена, выпячивая подобные тексты – мол, вот чего я еще до перестройки писал! – иные деятели чуть ли не строили на этом политическую карьеру. Однако лирическому герою Кердана, очевидно, уже тогда была важнее собственная совесть, которую, завидев «вдоль дороги столбы как распятья», он предупреждал: …А забудешь про братскую долю, станешь жить, никого не любя, – помни, совесть, что есть в чистом поле – есть! – пустующий столб для тебя. И даже с тем, что на поверку и впрямь оказалось химерой, живучая и памятливая совесть не позволяет расстаться враз и наотрез. И когда привычный мир становится на дыбы, когда посреди Москвы русские люди вновь стреляют друг в друга, герой поэмы Кердана «Последний комиссар» (1992 год) сетует: …Черт догадал родиться комиссаром Да с сатанинскою звездой во лбу… Ах, Окуджава, со своей гитарой Вы исковеркали мою судьбу… Воспетые Булатом «комиссары в пыльных шлемах» тогда и впрямь окончательно перестали быть воплощением лучших человеческих помыслов, а гражданская война, явив свой истинный лик – романтическим средством установления всеобщей справедливости. И все-таки герой поэмы, следуя завету одного из старых большевиков («…как миновали деда топоры его эпохи – остается тайной…»), продолжает именовать себя комиссаром. …Поскольку все на белом свете мы – Полпреды двух начал – добра и тьмы… Между той юношеской романтикой и ее болезненным взрослым переосмыслением – целая жизнь, которая и «березово-светла, и черна, где нету штукатурки…» – как у черных по пояс берез, стоящих вдоль железной дороги. А то и другого цвета. На афганскую войну героя, несмотря на его неоднократные рапорты, не отправили, однако она дотянулась до него желтухой, подхваченной через рукопожатие одного из «афганцев»: «…Вот тогда и понял я, как цепки руки у болезней и войны…» И все-таки, когда «из-за речки» возвращаются солдаты, «…смотрю на них и чувствую вину, как будто я придумал ту войну…» А спустя десятилетие коротко пронзает: Живым – живое. Павшим – третий тост И память, за которую не стыдно. На обелисках светит столько звезд, что в русском небе звезд почти не видно. А то самое живое – прежде всего любовь. Хотя и …праздники нечасты, Как всплески звездного весла, Которым ночь гребла и к счастью Или к несчастью нас несла… Иногда ощущение такое, что вместе с родной державой рушится мир. А подчас наоборот – «День так себе. Ни плох и ни хорош… Когда живешь и словно не живешь… И время растворяется в тебе неспешно, как таблетка валидола…» Но и оно идет и меняется. И со временем, когда прежние раны переходят в рубцы, взгляд проясняется, спокойнее и глубже становятся чувства и мысли, художественнее – их выражение. И вновь ощущаются уральские «два запаха родных: полынь и хвоя…». И вдруг в открытые поутру глаза бросается: «пока мы спали, вишня зацвела…» А на московском Тверском бульваре «…памятник склонил устало голову… и на плече его сидят два голубя – две мокрых неприкаянных души». А на бульваре Страстном, «где целуются парочки, очень трудно мне с чувствами справиться и с тобою «за ручку» бродить…» Поскольку «только та власть всесильна, которая страсть. Только тот поцелуй, чей запомнился вкус…» А одиночество ощущается автономным плаванием, в котором хочется «таинственной рыбой двуногою… плыть, отдавшись слепому течению беспредельной полночной тиши, пропуская созвездий свечения через чуткие жабры души…» Разговор о Кердане как лирике – это, что называется, отдельная песня. И он ее вполне достоин – как, впрочем, и многих других, которые может сложить уральская, да и не только, литературная критика, если ее немногие нынче силы все-таки достигнут необходимой для зоркого творчества критической массы. Мой же угол зрения определяется во многом собственными поэтическими наклонностями – и прежде всего созвучным вниманием Кердана ко времени, текущему сквозь душу и разум. Тому времени, которое вновь и вновь прорывается у него из сердечной глубины: «внук тех, что на гражданской умирали, теперь – отец идущих на нее…» И гром, за которым не случилось дождя, представляется поэту криком «ура», что прокатился по цепи стрелков, почему-то не рванувшихся в атаку. А «офицерский роман» от рожденья и до конца – с Россией, «даже если и не со счастливым концом». А стихотворение, в котором «море янтарною свежестью лечит, качая ветрами соленую даль…» и вообще ни слова про мировое неустройство, вдруг заостряется заголовком «На краю империи». И хотя «поэт – как ветер в чистом поле», а «у всех ветров судьба такая: смутил покой и улетел» («Памяти Алексея Решетова»), в другом стихотворении герой Кердана желает иного исхода: «…незабудкою мне бы суметь прорасти рядом с вами, отцы, рядом с вами, ребята…» Караул надежды Роман «Караул», открывающий второй том издания и более того – впервые видящий свет под его обложкой, современным бестселлером никак не назовешь. Ни тебе лихо закрученного сюжета, ни калейдоскопа событий. Какая там динамика, если завязка рисует, мягко говоря, не слишком интеллектуальную и одухотворенную жизнь провинциального военного училища застойных лет, а основные, как кажется поначалу, события происходят в вагоне, где, охраняя ящики с непонятным военным оборудованием, неторопливо едет караул из четырех курсантов? Ну, проявили смекалку, обживая не приспособленный для многодневной жизни товарняк. Ну, отстал на одной из станций однокурсник сержант Сергей Шалов, назначенный караульным начальником. Ну, изобразили служебное рвение перед одним из военных комендантов, а другой застал врасплох. Ну, напились портвейна с бывшим зэком Валерой, который потом потрепал нервы главному герою Сане Кравцу, завладев было его автоматом. Ну, оголодали, не рассчитав пайка до конца путешествия… Словом, ни тебе детектива, ни мистики, ни суперменства, ни крутого секса – так, узнаваемая бытовуха. И к чему автор ее описывает, поначалу ясно не совсем – ведь каких-либо глубоких психологических конфликтов между караульными тоже не случается. Так, в пределах того, что и можно ожидать от присвоенных им характеров. И развивающееся параллельно почти современное действие, связанное с жизнью одного из мотострелковых полков уже Российской Армии, где служит подполковник Александр Кравец, не слишком ускоряет события. Ведь известие о начале подготовки к отправке на юг – на войну, как открытым текстом сообщает своему «комиссару» в телефонном разговоре комполка Смолин – он получает, приехав к больной матери. Да и вернувшись в часть, с головой погружается в опять же бытовые хлопоты, пытаясь добыть деньги на элементарное мыло и прочие туалетные принадлежности, которых на армейских складах нет уже полгода. Тоже ничего из ряда вон выходящего: времена всеобщего дефицита еще памятны и гражданским. А что «тонну баксов» на покупку этих принадлежностей по просьбе Кравца дает один из тех четырех караульных, а ныне чванливый бизнесмен Леонид Масленников, которому и теперь вполне подходит прежняя кличка Мэсел, так подобная метаморфоза бывшего лизоблюда и карьериста – дело обычное для любых времен. Временные слои в «Карауле» перепластованы так, что и впрямь не сразу понимаешь, а про какие годы, собственно, роман. Семидесятые (неужели и впрямь уже надо уточнять, что прошлого века?) вполне узнаваемы: реплики, которыми перебрасываются курсанты в строю – те самые, которые чуть позже звучали и над собственным ухом. Слегка отвлекаясь на собственные воспоминания, читаешь первую главу и уже привыкаешь к этому времени как настоящему – как вдруг в начале второй главы действие переносится в девяностые. И оба пласта, каждый из которых сам по себе насыщен ретроспекциями, вновь и вновь переплетаются и прорастают друг в друга. И оба практически равноправны, хотя развязка наступает все-таки в девяностых… Что война эта – первая чеченская, вместе с офицерами наспех доукомплектованного полка начинаешь понимать уже тогда, когда первый эшелон трогается в путь. И опять, хотя состав идет почти без остановок, время не торопится. Да уже и не хочется его подгонять. Ибо ночной разговор с еще одним из тех давешних караульных – Юрием Захаровым, что подсел на несколько часов в поезд на одном из разъездов в районе Волгограда, идет отнюдь не только о событиях пятнадцати лет, на протяжении которых старые друзья не виделись, а о той же Чечне. Еще через несколько дней, накануне Нового года с полком Кравца происходит все то, что мы знаем и чего до сих пор не ведаем про тот декабрьский штурм Грозного. Неподготовленная атака, подожженные танки, БМП и БТРы, рота, гибнущая среди металлических гаражей, запоздалый артобстрел, поиск и опознание мертвецов… И командиром противостоящих полку «чехов», предложившим обменяться телами убитых, оказывается… бывший начкар Шалов, тогда представлявшийся кабардинцем, а ныне вспомнивший о чеченской линии своего родословия и именующий себя Сайпи. Однако если разобраться, на той же отнюдь не романтической гражданской войне и это пересечение в порядке вещей. Да и новая встреча раненого Кравца в госпитале с женщиной, с которой он когда-то познакомился, возвращаясь из того же выездного караула, и в которой потом так и не различил своей первой настоящей любви, встреча, рождающая надежду на запоздалое счастье – вполне возможна и естественна. И вот уже прикидываешь, какую из возможностей изберет автор: то ли вознаградит героя, то ли погубит, как Лев Толстой князя Андрея. Как вдруг – все опрокидывает банальный инфаркт, от которого скоропостижно умирает пошедший на поправку Кравец. И ощущение нелепой – и оттого тем более жизненной – случайности этого исхода не отпускает все несколько оставшихся страниц, на которых расплетаются последние сюжетные нитки. Играет оркестр, и гремят почетные залпы на торжественных похоронах, из которых сосед по родному подъезду устраивает предвыборный митинг. Безутешно рыдает вдова, при жизни мужа, мягко говоря, отнюдь не пылавшая к нему любовью. А Мэсел становится депутатом Государственной Думы. А Шалов-Сайпи ходит в советниках у Масхадова. А от мраморного памятника на могиле Кравца и от самих могил его и его матери, умершей через три дня после известия о смерти сына, вскоре не остается и следа. И кладбищенский сторож объясняет приехавшему Юрию Захарову: если год-полтора на могилу никто не ходит, она считается брошенной. А хорошее место на погосте всегда в цене… Опять же, в общем, все по жизни. По нашей, нынешней, в которой можно сесть в поезд и через несколько дней, не пересекая границу, приехать на войну. Или вместе с обычным рейсовым самолетом врезаться во Всемирный Торговый Центр, столкнуться с грузовым «Боингом» над Боденским озером, упасть в море от попадания шальной зенитной ракеты или на землю от взрыва террористки-смертницы. А то и просто спуститься в метро и после такого же взрыва подняться наверх как минимум на носилках. Или пойти на представление мюзикла и оказаться в заложниках. Или выйти на улицу и напороться на пулю во время бандитской разборки. По жизни, в которой всегда есть место не только подвигу или то радостным, то тягостным будням, но и смерти. И смерть – не просто спутница этой жизни, а ее естественная часть. И решение, как и ради чего ты проживешь отпущенное тебе время, зависит только от тебя. И вознаграждение или хотя бы долгую память за выбор праведного, нравственного пути никто не гарантирует. Тем самым «Караул» продолжает линию предшествующих, а в нынешнем издании – идущих за ним повестей и рассказов, действие которых происходит на фоне другой, афганской войны: «Черный тюльпан», «Потерянный ураган», «На минном поле», «Афганский детектив», «Праздничная ночь», «Березка». И они, и еще более ранний «Суд офицерской чести», где новеллы и короткие рассказы оказываются подчас гораздо сильнее, чем связующие их в единый цикл диалоги – о том же. Да и в исторической дилогии «Берег отдаленный…», составившей третий том издания и повествующей об освоении русскими Камчатки, Аляски и Калифорнии – все те же соседство и единство, и свободный выбор, который совершают герои в зависимости от содержания и цвета своей души. Светлой душа оказывается далеко не у всех. Однако далеко не у всех она и темна. И сам автор, в своем трезвом взгляде не скатываясь ни в «чернуху», ни в деланный восторг, набрасывая автобиографию, называет армию второй после матери «судьбинской женщиной». И поясняет: «Служба, в свою очередь, питала поэзию (а потом и прозу) правдой пережитого, учила мужеству и доброте…» Но для художественного произведения объяснения или даже подсказки пригодны далеко не всегда. Вряд ли необходимо, к примеру, проявлять для читателя «Караула» многозначность этого названия высказыванием полковника Смолина о том, что «мы все с самого рождения стоим в карауле. Только одни – часовые света, другие – тьмы…». Тем более что оно не только напоминает прямолинейную цитату из того же злободневного «Последнего комиссара», но и навеивает совсем уж ненужные параллели с одним из недавних блокбастеров, автор которого не только изъясняется сходными терминами, но и ставит знак равенства между двумя этими силами. У Кердана же и горькая ирония в финале «Караула» насчет того, что «можно как угодно честить армию, но, когда умрешь, она обходится с тобой как с человеком», оставляет частицу надежды на то, что свет все-таки одолеет – или хотя бы на то, что мраку не суждено победить. Той самой надежды, которую рождает в человеке даже падающая звезда – как и поступки многих персонажей, вполне позволяющие подсказать тем, кто ныне сетует на отсутствие в нашей литературе положительного героя: а вы почитайте Александра Кердана… Андрей РАСТОРГУЕВ. Кердан Александр. Сочинения в трех томах. – Екатеринбург, Сократ, 2005. Тираж 1000 экз. 06,08.2005 |
